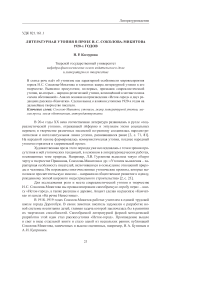Литературная утопия в прозе И. С. Соколова-Микитова 1920-х годов
Автор: Косоурова Надежда Романовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идёт об утопизме как характерной особенности мировосприятия героев И. С. Соколова-Микитова и элементах жанра литературной утопии в его творчестве. Выявлено присутствие, во-первых, признаков соцреалистической утопии, во-вторых – народно-религиозной утопии, воплощённой в мотиве поиска «земли обетованной». Анализ основан на произведении «Исток-город» и двух редакциях рассказа «Камчатка». Сделан вывод о влиянии утопизма 1920-х годов на дальнейшее творчество писателя.
Соколов-микитов, утопизм, жанр литературной утопии, малая проза, земля обетованная, авторедактирование
Короткий адрес: https://sciup.org/146281285
IDR: 146281285 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Литературная утопия в прозе И. С. Соколова-Микитова 1920-х годов
В 20-е годы XX века отечественная литература развивалась в русле «соц-реалистической утопии», отражавшей эйфорию и энтузиазм эпохи социальных перемен; в творчестве различных писателей по-разному соединялась народно-религиозная и интеллектуальная линия утопии, развивавшиеся ранее [3, с. 71, 81]. На народной основе формировалась коммунистическая утопия, позднее народный утопизм отразится в «деревенской прозе».
Художественная проза этого периода уже исследовалась с точки зрения присутствия в ней утопических тенденций, в основном в литературоведческих работах, посвященных теме природы. Например, Л.В. Гурленова выделила такую общую черту в творчестве Пришвина, Соколова-Микитова и др.: «Утопизм мышления – характерная особенность писателей, включившихся в осмысление отношений природы и человека. Им порождены многочисленные утопические проекты, которые выполняли просветительскую миссию – направляли общественное развитие к идеалу, рожденному эпохой широкого индустриального строительства» [2, с. 23].
Для исследования роли и места соцреалистической утопии в творчестве И. С. Соколова-Микитова мы проанализировали своеобразную «пробу пера» – книгу «Исток-город», а также рассказы о деревне. Акцент сделан на рассказе «Камчатка» из цикла «На речке Невестнице».
В 1918–1919 годах Соколов-Микитов работал учителем в единой трудовой школе города Дорогобуж. В своих заметках писатель задумался о разработке новой системы воспитания детей, главная задача которой заключалась бы в развитии их творческих способностей. Своеобразной литературной формой методической разработки этой идеи стал рассказ-утопия «Исток-город». Произведение вышло в свет в виде отдельной книги и стало одной из нескольких ранних публикаций Соколова-Микитова, замеченных и высоко оцененных, например, И. А. Буниным и А. И. Куприным.
В утопии «Исток-город» счастье и развитие детей представляется автору залогом «светлого будущего». Произведение отчасти отражает действительность с её пролетарской идеей «обобществления быта» и предвосхищает мотив дома-коммуны в литературе 1920–1930-х годов: «Социальное устройство. Коммуна. Принципы социализма. Гражданские обязанности: дисциплина и ответственность, – отчетность. Ленивым и тунеядцам места нет» [9, с. 57]. Совокупность приемов изложения и сама форма произведения свидетельствует о том, насколько реальным представлялся автору «план детской коммуны». Однако последующая публикация его в виде книги с философскими размышлениями на тему детства позволяет рассматривать Исток-город как идеальный, утопический образ, а жанр этого произведения определять как литературную утопию. Представление о большой роли созидательного фактора в формировании личности и общества следует оценивать как общую тенденцию в развитии литературы, как проявление у Соколова-Микитова «утопического мышления» – знакового явления в прозе 1920-х годов [1].
Созидание в дальнейшем станет одной из основ раскрытия темы человека и природы, проблематики русского национального характера в многочисленных путевых очерках. Тема детства будет развиваться в творчестве писателя автопсихологично, воспитание детей больше не пересечется с понятием коммуны. Несмотря на то, что Соколов-Микитов больше не будет разрабатывать утопические идеи, в его творчестве утопизм предыдущих эпох будет переосмысляться и воплотится в мотиве поиска «земли обетованной».
В малой художественной прозе Соколова-Микитова 1920-х годов черты утопии продолжили развиваться в народно-религиозном русле. В рассказах писателя отразились переосмысленные им, трансформированные народные легенды о поиске мистического Китеж-града, Беловодья. Образ свободной земли оказался лишенным очевидной религиозности и связывался теперь у Соколова-Микитова с реальной, хотя и не постоянной, топонимикой: Камчатка, Сибирь, Кубань. В цикле «На речке Невестнице» о поиске лучшей жизни говорится в рассказе «Камчатка» (1924). Одноимённый полуостров – будто «сказочная счастливая земля». В рамках данного исследования мы сравнили ранние и поздние редакции произведения и обнаружили, что сочувствующая точка зрения автора, его погружённость в наивное мироощущение крестьянина сменяется отстраненностью позиции повествователя, снисходительным отношением к легендам, бытующим среди мужиков.
Рассказ «Камчатка» впервые опубликован в 1924 году в журнале «Огонёк», а позднее был несколько переработан и вошёл в цикл «На речке Невестнице». Для исследователей творчества Соколова-Микитова это произведение имеет особое значение по разным причинам. В нем пересекается тема Родины, России на сломе истории, тема деревни, сопровождаемая рассуждениями о душе и судьбе русского мужика. С него начинается важный мотив – поиск героями-крестьянами «земли обетованной» (а это видоизмененные народные легенды о поиске мистической страны свободы).
В этом и других рассказах («На пнях» (1924), «Медовое сено» (1929) и др.) утопический образ «земли обетованной» строится на двух компонентах: плодородная земля и еда в изобилии. Это не совсем, по крайней мере не для всех героев, стремление к дармовому хлебу (ср. с Млечной рекой, текущей прямо с неба в легендах о Беловодье). Мужики рады трудиться, если этот труд даёт ощутимый результат. Всё же для некоторых персонажей это изобилие означает праздность и лёгкую жизнь, что идёт вразрез с трудовым раем «Исток-города».
Рассказ «Камчатка» написан, по выражению М. Левитина, в свойственной автору «печально-юмористической» манере. В основе лежит история о том, как мужики поверили слухам о некой конторе, в которой записывают желающих уехать на Камчатку добывать золото, и стали искать эту контору. Шумная толпа деятельных мужиков, собравшихся на станции, настораживает прохожих и милицию. В свою очередь, герои объясняют поведение окружающих жадностью, нежеланием выдавать полезные сведения: «Врёте, смекаем, никак это невозможно, сами небось наточили носы». После ночи, проведенной запертыми (от греха подальше) в сарае, пыл у мужиков поубавился, осталась только злость на того, кто первый пустил слух. Однако сам рассказчик в финале задумывается о существовании той самой чудесной земли.
Мы нашли возможность сравнить две редакции рассказа, значительно удалённые друг от друга во времени (1930-е и 1950-е годы). Интересно было отследить процесс авторедактирования текста, тем более что цикл «На речке Невестнице» всегда публиковался при активном участии автора, последний раз вносившего коррективы при подготовке собрания сочинений 1965–1966 годов.
Первая редакция, которую мы рассматриваем, – это недатированная машинопись (отпечатано автором), подписанная в печать Василием Казиным, который служил редактором в Гослитиздате с 1931 по 1940 годы [10]. Она уникальна тем, что, в отличие от публиковавшейся несколько раз версии рассказа 1920-х годов, здесь присутствует усеченная композиция, нет вступительной части. Изначально (и позже это вступление вернётся в текст) автор предваряет описываемый случай зарисовкой из мира природы: ветер в лесу тихонько качает верхушки некоторых деревьев, и довольно быстро от этого начинает качаться и весь лес. «Так в лесу, так и в людях: слух бежит неуследимо».
Поэтому во второй редакции рассказ получился хоть и незначительно, но длиннее – примерно на тысячу знаков. В остальном же работа над текстом велась в направлении лаконизма, точного подбора слова, избавления от лишних подробностей.
Стоит обратить внимание на наиболее значимые изменения, которые претерпел текст рассказа за два десятилетия. Эти изменения нельзя не связать с трансформацией самого читателя и среды, в которой существует произведение. У нас есть свидетельства, правда, относящиеся к очеркам Соколова-Микитова, что редакторы видели и не одобряли «довоенный» взгляд писателя на вещи (например, именно из-за этого К. Симонов выступал против публикации произведений Соколова-Ми-китова в 1946 году) [4].
С исправлениями рассказ «Камчатка» был опубликован в книге «На тёплой земле» в 1954 году [8]. Рассказ явно адаптирован для нового читателя и новой исторической ситуации. Изначально он был написан в подчёркнуто народной манере, с соответствующей орфографией и пунктуацией: «Хлебнули лаптем щев». Но в одном случае даже в 1920-е годы понадобился авторский перевод диковинного выражения. Было так: «Подметнулся какой-то, задница кожей обшита, под локтем “доски”…» и внизу примечание автора: «“Досками” деревня называет начальнические портфели, знак власти». Итак, в ранней редакции автор с иронией вводит в повествование «начальника» с портфелем. В поздней редакции это упоминание знака власти исчезает, как и манера героя ругать милицию «чертями», как и угрозы, содержащиеся в репликах самих милиционеров. Кроме того, из рассказа закономерно исчезло упоминание Америки (изначально копать золото предполагалось «на Америку»). И ещё один любопытный пример замены реалий – изначально слух прошел, что на земле обетованной «дают на рыло по пятьдесят мильярдов», после они превращаются в «пятьдесят червёнцев».
Значительно редактируя и перерабатывая свои произведения в 1950-е годы, Соколов-Микитов приводит буквально все рассказы о деревне к такой композиции, в которой действие обрамлено зарисовками из мира природы. В рассматриваемом рассказе так и получилось – благодаря возвращенной параллели между ветром в лесу и разносящимися по деревне слухами. Кроме того, вернуть вступление про слухи значило подчеркнуть наивность мужиков. В новом финале рассказчик называет Камчатку «сказочной» и сам как будто удивляется, что ему верится в эти сказки. Но главное, принципиально важное изменение, затронувшее концепцию произведения, проявилось в отказе от формулировки «земля обетованная». Русская душа не ищет уже землю обетованную, а тоскует «о путях и далях».
Итак, «Камчатка» – одно из многих произведений, подвергшихся принципиальным изменениям в процессе авторедактирования. Изменились композиция и язык произведения. Сочувствие автора уступило место снисходительной иронии по отношению к наивно-утопическим взглядам народа. Реалии тоже адаптируются, по-другому прочитывается отношение к власть имущим и к милиции, к Америке и царским деньгам.
Причины готовности крестьянина сняться с насиженных мест в поисках лучшей жизни автор видит в извечной тоске русской души по путям и далям, в стремлении к истине и справедливости, к вере и Богу. Думается, размышления И. С. Соколова-Микитова на эту тему следует рассматривать в русле концепции «духовного реализма», разработанной В. А. Редькиным [5; 6; 7] и другими учеными. И. С. Соколов-Микитов относится к числу тех художников слова, в произведениях которых, благодаря этому своеобразному творческому методу, «главные ценности из мира внешнего, социального перемещаются во внутренний мир человека. Эти ценности не всегда доступны рациональному сознанию» [6, с. 76]. Поэтому поведение многих героев Соколова-Микитова иррационально. Самые разные географические точки (что характерно, значительно удалённые от места действия) становятся для его персонажей целью действительного или вымышленного путешествия, герой не может усидеть на месте. Крестьянин, обычно привязанный к своей земле, ищет лучшей жизни всегда, но важной приметой времени становится оторванность от земли в силу не только личных, но и социально-исторических причин.
Так утопический мотив поиска земли обетованной проявляется в рассказах о деревне. Но можно проследить его развитие в более поздних охотничьих рассказах и в произведениях о детстве. Интересно также разное изображение земли обетованной в пространственном и временном плане: «земля обетованная» – это не только «где», как в вышеназванных рассказах, но и «когда» – в цикле «По сорочьему царству», рисующем идиллические картины детства писателя на Смоленщине. Ушедшая Россия рубежа веков в 1920-е годы стала утопией, основанной на образах семьи и детской идиллии.
Список литературы Литературная утопия в прозе И. С. Соколова-Микитова 1920-х годов
- Ануфриев А. Е. Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети XX века. Эволюция. Поэтика: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.01.01/А. Е. Ануфриев; Моск. пед. гос. ун-т. М., 2002. 40 с.
- Гурленова Л. В. Чувство природы в русской прозе 1920-1930-х гг. Сыктывкар: Сыктывкар. гос. ун-т, 1998. 179 с.
- Ковтун Н. В. Русская литературная утопия второй половины XX века. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. 536 с.
- Обсуждение «Очерков о Тянь-Шане» И. С. Соколова-Микитова на заседании редколлегии журнала «Новый мир»: Машинопись. 02.11.1946//РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 9.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 152 с.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье. Очерки о тверской поэзии XX-XXI веков. Тверь: Волга, 2017. 672 с.
- Соколов-Микитов И. С. На тёплой земле. М.: Худож. лит., 1954. 852 с.
- Соколов-Микитов И. С. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Л.: Худож. лит., 1987. 448 с.
- Соколов-Микитов И. С. Камчатка: Рассказ. Машинопись с пометой В. Казина. Б. д.//РГАЛИ. Ф. 341 (Е. Ф. Никитина). Оп. 1. Ед. хр. 705.