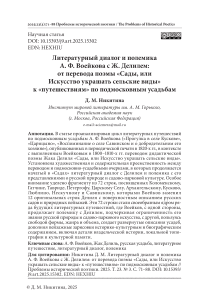Литературный диалог и полемика А. Ф. Воейкова с Ж. Делилем: от перевода поэмы «Сады, или Искусство украшать сельские виды» к «путешествиям» по подмосковным усадьбам
Автор: Никитина Д.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован цикл литературных путешествий по подмосковным усадьбам А. Ф. Воейкова («Прогулка в селе Кускове», «Царицыно», «Воспоминание о селе Савинском и о добродетельном его хозяине»), опубликованных в периодической печати в 1820-х гг., в контексте с выполненным Воейковым в 1800–1810-х гг. переводом дидактической поэмы Жака Делиля «Сады, или Искусство украшать сельские виды». Установлена художественная и содержательная преемственность между переводом и подмосковно-усадебными очерками, в которых продолжается начатый в «Садах» литературный диалог с Делилем и полемика с его представлениями о русской природе и садово-парковой культуре. Особое внимание уделено фрагменту из 72 строк, посвященных Коломенскому, Гатчине, Тавриде, Петергофу, Царскому Селу, Архангельскому, Кусково, Люблино, Нескучному и Савинскому, которыми Воейков заменил 12 оригинальных строк Делиля с поверхностным описанием русских садов и природных пейзажей. Эти 72 строки стали своеобразным ядром ряда будущих литературных путешествий, где Воейков, с одной стороны, продолжает полемику с Делилем, подчеркивая ограниченность его знания русской природы и садово-паркового искусства, с другой, пользуясь свободой формы, жанра и объема, создает развернутые описания усадеб, дополняя пейзажные зарисовки историко-культурным и биографическим содержанием, включая детали владельческой истории, локальной топографии и культурной памяти.
А. Ф. Воейков, Жак Делиль, русская усадьба, литературное путешествие, литературный диалог, полемика
Короткий адрес: https://sciup.org/147251690
IDR: 147251690 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15302
Текст научной статьи Литературный диалог и полемика А. Ф. Воейкова с Ж. Делилем: от перевода поэмы «Сады, или Искусство украшать сельские виды» к «путешествиям» по подмосковным усадьбам
В литературном наследии А. Ф. Воейкова особое место занимают его «путешествия» по подмосковным усадьбам, опубликованные в периодической печати в середине 1820-х гг. и входящие в состав более широкого цикла, посвященного путешествиям по России (см. подробнее: [Климентьева, 2011, 2013, 1993: 145–174], [Никитина, 2021], а также: [Балакин, 2022: 233–239; 2023: 12–18]). К числу таких произведений относятся «Прогулка в селе Кускове», «Царицыно» и «Воспоминание о селе Савинском и о добродетельном его хозяине». «Царицыно»1 и «Воспоминание о селе Савинском…»2 вышли в 1825 г. в журнале Воейкова «Новости литературы». «Прогулка в селе Кускове» была напечатана четырежды: впервые в 1824 г. в альманахе А. А. Дельвига «Северные цветы» на 1825 г.3, затем в 1826 г. — в «Новостях литературы»4 и, наконец, в 1829 г. — в журнале Воейкова «Славянин»5 и отдельным оттиском, вместе с «Кратким описанием села Спасского, Кусково тож, принадлежащего его сиятельству графу Петру Борисовичу Шереметеву»6 — «своеобразным "путеводителем" по дворцу и парку подмосковной вотчины Шереметевых» [Кузьмин: 175], автором которого был крепостной Шереметевых, переводчик и режиссер крепостного театра В. Г. Вороблевский (см. о нем: [Кузьмин]).
Впервые подмосковно-усадебные тексты Воейкова стали предметом научного анализа в диссертационном исследовании М. Ф. Климентьевой ([Климентьева, 1993: 145–176]; см. также: [Климентьева, 2011, 2013]), в котором автор проследила эволюцию творческого метода писателя — от описательнодидактической поэмы к жанру литературного путешествия. Исследовательница точно подметила, что «осколки сюжетов в "Садах" развивались в полнокровные сюжеты со вставными внесюжетными элементами» [Климентьева, 1993: 163], однако ни тогда, ни в дальнейшем не стала подробно останавливаться на этом наблюдении и развивать свою мысль. Несмотря на краткость и обобщенность высказывания, содержащийся в нем тезис представляет значительный научный интерес и обусловливает необходимость дальнейшего его раскрытия, что и предполагается сделать в рамках настоящей работы.
Все три подмосковно-усадебных очерка являются завершенными самостоятельными произведениями. При этом каждый из них имеет многослойную структуру: за внешней описательностью скрываются более глубокие смысловые пласты. Написанные в неоднозначной жанровой форме, произведения представляют собою очерки, в которых есть и воспоминания, и описания, и литературные путешествия, и экскурс в историю, и биографические фрагменты, и рассказы о прогулке по усадьбам. Сочинения знакомят читателей с историей усадеб, их внутренним убранством, приусадебной территорией, с их архитектурным комплексом, садово-парковым пространством, водно-прудовой системой, с личной и творческой биографией хозяев. При этом тексты насыщены историческими аллюзиями и многочисленными упоминаниями топонимов, усадеб и их владельцев, имен писателей, художников, философов, а также названий литературных ихудожественных произведений.
Тексты наполнены литературными аллюзиями, реминисценциями [Климентьева, 1993: 171], стилизациями, обращениями к литературным соратникам [Никитина, 2021: 2916–2918; 2022], цитатами и самоцитатами. Среди множества цитируемых источников особое место занимает дидактическая поэма Жака Делиля «Сады, или Искусство украшать сельские виды», над переводом которой Воейков начал работу около 1806 г. [Жирмунская, Лотман: 225], завершив ее в 1815 г. [Реморова: 20]; перевод был опубликован в 1816 г. Частое обращение к этому произведению в подмосковных «путешествиях» неслучайно.
В поэме Делиля, посвященной ландшафтному искусству и устройству садов, представлен обзор садовых традиций Европы и Востока [Жирмунская: 183–190] и также дано краткое описание природных условий России:
«В России северной свирепствуют метели, Но мощные леса, их кедры, сосны, ели, Мхи и лишайники во мгле морозных зим Стоят зеленые под слоем снеговым.
Умение и труд там все превозмогают. Огонь с морозами бороться помогает, И Флора юная приходит в свой черед Туда, где сам Вулкан Помону бережет. Великий мудрый царь принес в народ науку; Он над страной простер властительную руку, В борьбе со стариной верша свои труды.
Вкусят потомки им взращенные плоды» 7 .
Как установила Н. Б. Реморова, эти 12 строк, отведенные Делилем общим рассуждениям о русской природе, Воейков заменил 72 строками собственного сочинения [Реморова: 31, примеч. 17], в которых привел «сведения о пригородных императорских резиденциях и подмосковных помещичьих имениях, известных своими садами и парками, а также о русском климате и русской природе» [Заборов, 2022: 52]. В этих стихах Воейков описал Коломенское, Гатчину, Тавриду, Петергоф, Царское село, Архангельское, Кусково, Люблино, Нескучное и Савинское.
Впервые эти 72 строки были опубликованы в «Вестнике Европы» под названием «Описание русских садов (Отрывок из поэмы "Сады, или Искусство украшать сельские виды")». Текст был сопровожден примечаниями с указанием местоположения садов и усадеб, а также сведениями об их владельцах. В преамбуле к тексту Воейков поясняет причину включения собственных стихов в перевод поэмы Делиля:
«Делиль, не имея достаточных сведений о состоянии русских садов, несколькими красивыми стихами, совсем не принадлежащими к его предмету, отыгрывается и прикрывает свое незнание, так же как Вольтер в "Истории Петра Великого" смело повествует о древности и обычаях предков наших. Переводчик "Садов" не захотел повторять сего описания, как весьма неудовлетворительного для русской публики. Он предлагает здесь отрывок о лучших русских садах, написанный им, как легко усмотреть могут читатели, от лица французского поэта» 8 .
Для подтверждения своих слов Воейков приводит строки Делиля на французском языке. Кроме того, он объясняет причину того, почему ему не удалось упомянуть все заслуживающие внимания отечественные сады и парки:
«Желая соблюсти ту же краткость, с какою Делиль описывает славные дачи около Парижа, мы очень жалеем, что не можем ничего сказать здесь о Царицыне , о славной даче графа Л. К. Разумовского Петровском , о даче графа П. А. Строганова и о многих других садах, которые природою и искусственными украшениями не уступают ни английским, ни французским, ни италиянским» ( Описание русских садов : 190–191).
Оба эти фрагмента — авторское пояснение причин включения собственных стихов в чужой текст и комментарий о невозможности охватить все примеры — были использованы Воейковым в примечаниях к изданию «Садов» 1816 г., с незначительными редакционными изменениями9. В частности, он дополнил перечень неупомянутых парков, добавив к Царицыно, задуманному как летняя царская резиденция Екатерины II, Павловск — летнюю императорскую резиденцию Павла I и Марии Федоровны:
«…русский переводчик очень жалеет, что ничего не может сказать особенного о Павловском , о Царицыне …» ( Делиль, 1816 : 163).
Обратим внимание на первое примечание к переводу «Садов»: в нем Воейков с иронией указывает на схожесть того, как Делиль и Вольтер описывают российскую действительность. Поверхностные и обобщенные суждения Делиля о русской природе Воейков сравнивает с не менее условными представлениями Вольтера о допетровской России, изображенной в «Истории Российской империи при Петре Великом», как о стране с «азиатскими» обычаями и примитивной культурой (см. выше: Описание русских садов : 190–191; ср. также: [Мезин], [Свердлов: 701–707]).
Упоминание Вольтера в данном комментарии Воейкова имеет под собой определенную основу. Еще в 1809 г. Воейков издал свой перевод двух исторических трудов Вольтера, посвященных Людовику XIV и Людовику XV («История царствования Лудовика XIV и Лудовика XV, королей французских, с присовокуплением словаря всех знаменитых французских мужей: министров, полководцев, писателей и художников, прославивших царствование сих государей»). Анализируя этот перевод, П. Р. Заборов отметил, что Воейков использовал новый для того времени способ полемики с сомнительными, с точки зрения русского читателя, утверждениями Вольтера, касающимися российских реалий: не изменяя самого текста, Воейков снабдил перевод «Истории…» обширными примечаниями, в которых скорректировал и прокомментировал высказывания Вольтера о России [Заборов, 1978: 113–115], [Токарев: 80].
Таким образом, отсылка к «Истории Российской империи при Петре Великом» в примечании к «Садам» Делиля неслучайна: Воейков продолжает начатую еще задолго до появления перевода «Садов» полемику с вольтеровским представлением о российской истории.
Показательно, что к фигуре Вольтера Воейков возвращается и позднее — в одном из своих подмосковно-усадебных очерков, в «Воспоминании о селе Савинском…», где вновь иронизирует над суждениями философа о допетровской Руси:
«… Вольтер доказывал, что до Петра Великого предки наши были варвары, подобные ирокезцам и готтентотам» ( Воспоминание о селе Савинском : 65).
Схожим образом Воейков высказывается и об изображении русской природы у Делиля — с тем же ироническим недоверием к их обобщенности и поверхностности. Однако Воейков не ограничивается лишь критическими замечаниями: полемика с французским поэтом переходит в художественное вмешательство — он заменяет те стихотворные фрагменты, которые считает неудачными, собственными стихами.
Таким образом, включение авторских стихотворных вставок в перевод «Садов» становится не просто проявлением поэтической вольности или стремлением компенсировать нехватку точных сведений об описываемом предмете. Это осознанный художественный жест, положивший начало литературному диалогу между Воейковым и Делилем — диалогу, основанному на разнице в представлениях о русской природе и садово-парковом искусстве.
Сравним 12 строк, посвященных описанию русской природы (см. выше), с тем, как Делиль описывает, например, германские сады:
«Густыми рощами, обилием воды
Повсюду славятся германские сады:
Рейнсберг, что в озеро, как в зеркало, глядится, Шедеврами искусств заслуженно гордится;
И прусским издавна приятный королям Дворцовой роскошью блистающий Потсдам, То мирный, то войну с соседями ведущий; Бельвю, где в зелени, сквозь буковые кущи Течет широкая, спокойная река, Изгибы плавные ведя издалека;
Гозау и Касселя озера, водопады,
Вёрлиц, исполненный пленительной прохлады, — Достойны все они восторженных похвал: Никто до наших дней такого не знавал» 10 .
На этом фоне особенно заметна стратегия Воейкова, стремящегося не только противопоставить обобщенному опи– санию России более конкретные и достоверные образы, но и показать, что русская природа — не только дикая и необжитая, но и облагороженная, культурно освоенная, способная соперничать с лучшими образцами садово-паркового искусства Европы. Так, в одном из добавленных им фрагментов, посвященных Архангельскому, Воейков пишет:
«Пример Двора священ вельможам, богачам;
Во всех родилась страсть изящная к садам: В Архангельском сады, чертоги и аллеи, Как бы творение могущей некой феи, За диво бы почли и в Англии самой»
( Описание русских садов : 193).
Впоследствии, в течение десятилетия, последовавшего за публикацией перевода поэмы Делиля, фрагмент, описывающий русские сады, трансформировался в цикл самостоятельных сюжетов, посвященных подмосковным усадьбам. И если в переводе «Садов» Воейков был вынужден «соблюсти ту же краткость, с какою Делиль описывает славные дачи около Парижа» ( Описание русских садов : 190), то работая над отдельными очерками, он не был стеснен ни в выборе рассматриваемого объекта, ни в объеме описания. И именно жанр литературного путешествия оказался наиболее подходящим для реализации авторского замысла, поскольку позволял свободно сочетать элементы прозы и поэзии, включать автобиографические фрагменты, описания природы и быта, воспоминания, а также иные формы повествования, не ограниченные жесткими жанровыми рамками [Климентьева, 1993: 164–174].
Так, строки из поэмы, посвященные Кусково:
«Село Кусково, где боярин жил большой, Любивший русское старинно хлебосольство, Народны праздники и по трудах спокойство…»
(Делиль, 1816: 19), — нашли свое продолжение и развитие в «Прогулке в селе Кускове» (эти строки были включены в очерк в качестве эпиграфа). Построенное как рассказ о загородной поездке в бывшее владение графа П. Б. Шереметева, произведение разворачивается в форме прогулки, сочетающей черты экскурсии, воспоминаний и философских размышлений.
Бóльшая часть текста посвящена описанию усадьбы Кусково как культурного и художественного пространства. Воейков подробно рассматривает архитектуру главного дома, внутренние интерьеры, коллекции предметов искусства и редкостей, а также садово-парковый ансамбль с его регулярным французским, итальянским и английским садами, оранжереями, прудами, беседками, павильонами, пещерами, театром и зоопарком. Во многих местах автор делает исторические отступления, вспоминая графа Шереметева, его знаменитый крепостной театр и культурное значение усадьбы в прошлом.
Особое внимание уделяется памяти о «веке Екатерины» и связанным с ним представлениям о вкусе, порядке, просвещении и эстетике. Описывая портретную галерею европейских монархов и русских вельмож, Воейков рассуждает о морали, политике, общественном служении и национальной памяти. Через противопоставление былой роскоши и современного запустения проводится мотив утраты и смены культурных эпох.
Обширный фрагмент о Савинском:
«О Муза! зрелищем роскошным утомленны, В деревню поспешим под кров уединенный, Туда, где Лопухин с Природой жизнь ведет, Древ тенью Савинских укрывшись от забот; Не знаешь, в сад его вошед, чему дивиться, Куда скорей спешить, над чем остановиться; Сюда манит лесок, туда приятный луг;
Тут воды обошли роскошные вокруг;
Там Юнг и Фенелон, вдали кресты, кладбище
Напоминают нам и вечное жилище И узы жизни сей; умеют научать, Не разрывая их, помалу ослаблять.
Здесь памятник Гюён, сея жены почтенной, Христовой ратницы святой и исступленной, Которая, сложа греховной плоти прах, До смерти, кажется, жила на небесах, Которая славна и у врагов закона
Примерной жизнию и дружбой Фенелона»
(Делиль, 1816: 19–20) — лег в основу очерка «Воспоминание о селе Савинском и о добродетельном его хозяине».
Этот очерк посвящен выдающемуся государственному деятелю эпохи конца XVIII — начала XIX в., философу, публицисту, мемуаристу И. В. Лопухину, представленному как образец просвещенного и добродетельного вельможи, а также его усадьбе. Текст поделен на две части. В первой рассказывается о живописной красоте Савинского сада, устроенного в духе гармонии с природой, отражающей внутренний мир и нравственные устремления владельца. Описание прогулки по саду чередуется с поэтическими вставками, философскими размышлениями о бренности жизни и восхищением простыми радостями. Во второй части раскрывается обширная биография Лопухина: его военная и сенаторская служба, участие в гуманистических и религиозных просветительских миссиях, защита невинных, борьба против жестоких наказаний, труды на благо Отечества. Отдельно подчеркивается искреннее человеколюбие Лопухина, его вера, скромность и самоотверженность.
В свою очередь короткое упоминание Царицыно в примечаниях к переводу «Садов» Делиля — «мы очень жалеем, что не можем ничего сказать здесь о Царицыне » ( Описание русских садов : 193) — разворачивается в полноценный очерк о летней царской резиденции Екатерины II в Подмосковье.
Этот текст посвящен описанию Царицыно и эмоциональным впечатлениям автора от его посещения. Для него Царицыно — место, пробуждающее размышления, воспоминания и философскую грусть. Воейков детально описывает архитектуру дворца, природный ландшафт, особенности сада и историю места, проводя сравнение с другими знаменитыми императорскими резиденциями — Петергофом и Царским Селом. Он подчеркивает уникальность и поэтичность Царицыно, его «дикую» красоту и способность вызывать глубокие чувства. Все произведение наполнено ностальгией, размышлением о памяти, утешении природы и стремлении души к покою.
Вместе с тем известно, что Воейков работал над очерком, посвященным описанию Коломенского, Измайловского и Преображенского. В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук хранятся «Материалы для описания сел Коломенского, Преображенского и Измайловского, или Выписки образа жизни российских царей», представляющие собой извлечения из «Странствий в окрестностях Москвы» П. П. Свиньина, «Писем к молодому человеку, касающихся истории и описания России» М. Н. Муравьева, «Исторических воспоминаний и замечаний на пути к Троице» Н. М. Карамзина, «Дополнений к Деяниям Петра Великого» И. И. Голикова и др.11
Таким образом, строки, посвященные царю Алексею Михайловичу и его детям — Петру и Софье:
«Старинные сады, монархов славных их Останки славные, почтенны ввек для них, Вельмож, царей, цариц святятся именами, И вкуса древнего им служат образцами. Увеселительный Коломенский дворец, Где обитал Петра Великого отец,
И где Великий сей младенец в свет родился, И в Вифлеем чертог царя преобразился;
На берегу Москвы обширный сад, густой,
Лип, вишен, яблонь лес, где часто в летний зной, Любя прохладу вод и тени древ густые, Честолюбивая покоилась София»
(Делиль, 1816: 17–18), — должны были получить свое продолжение в планировавшемся описании Коломенского и других царских резиденций — Измайловского и Преображенского (см.: [Датиева, Семенова], [Суздалев], [Бокарева], [Топычканов]). Однако этот замысел не осуществился.
Воейков включает цитаты из перевода «Садов» Делиля во все три свои очерка: «Прогулка в селе Кускове», «Царицыно» и «Воспоминание о селе Савинском…». В первых двух — «Кусково» и «Царицыно» — он ограничивается воспроизведением отдельных строк из поэмы: либо обобщенных размышлений о природе, либо фрагментов, непосредственно связанных с описываемыми усадьбами. Эти цитаты выполняют функцию тематической связки, объединяя подмосковно-усадебные тексты с поэмой Делиля и продолжая начатый ранее литературный диалог.
Иной характер носит обращение к Делилю в «Воспоминании о селе Савинском…». Здесь Воейков возвращается к мысли, впервые высказанной им в «Вестнике Европы» в 1813 г., — о том, что Делиль недостаточно хорошо знал русскую природу, сады и парки. И это уже не просто формальная отсылка к Делилю, а содержательное возражение: Воейков снова вступает с ним в полемику, противопоставляя его обобщенным представлениям свои собственные наблюдения и знание русской природы. В этом контексте «Воспоминание о селе Савинском…» становится не просто продолжением, но и кульминацией всего диалога с Делилем — здесь позиция Воейкова звучит особенно четко, аргументированно и опирается на личный опыт и конкретную реальность:
«…Делиль, говоря о русских садах, написал бы несколько славных стихов о Царском Селе, о Павловском, о Софиевке; но, к сожалению, не имея никакого понятия о сих пышных садах, он принужден был прикрыть свое незнание следующими стихами <…>. Соперник Вергилия удивился бы, услышав, что Царское Село превосходит Версаль великолепием, разнообразностью и вкусом; что Петергофские водометы посрамляют Сен-Клудские; что в Софиевке огромные утесы передвинуты, огранены, поставлены один на другой, и из цельных гранитных скал, как будто бы из вещества мягкого и покорного, вырезаны пещеры и беседки со столами, водоемами, купальнями, скамейками, и сквозь камни проведены шумные, неистощимые водоскаты.
Это еще не все! Кроме прелестей, коими одарила их щедрая природа, и убранств, которыми обязаны они искусствам, сады русских царей и вельмож имеют собственные, так сказать, нравственные свойства, особенную физиогномию. В них отражается характер их владетелей. Хотите ли примеров? Они бесчисленны» ( Воспоминание о селе Савинском : 65–66).
Показательно, что в «Воспоминании о селе Савинском…» Воейков приводит на французском языке именно те 12 строк из поэмы Делиля, которые ранее были им заменены в переводе 72 собственными стихами. Напомним, что, публикуя перевод «Садов», он прямо заявил о своем отказе воспроизводить этот фрагмент, сочтя его неудовлетворительным для русского читателя. Оставляя строки оригинала без перевода, Воейков сознательно акцентирует свою позицию: по его убеждению, данный эпизод, посвященный русским садам, настолько неточен и поверхностен, что не заслуживает даже переложения на русский язык. Этот прием становится не только жестом литературной критики, но и формой дистанцирования от суждений Делиля.
В литературной биографии А. Ф. Воейкова очерки о подмосковных усадьбах приобретают особую значимость как продолжение начатого им в переводе Делиля диалога с европейским восприятием России.