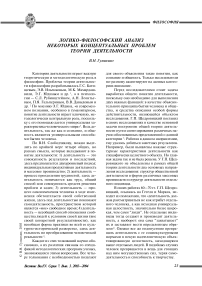Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности
Автор: Гуляихин В.Н.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974056
IDR: 14974056
Текст статьи Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности
Категория деятельности играет важную теоретическую и методологическую роль в философии. Проблема теории деятельности в философии разрабатывалась Г.С. Батищевым, Э.В. Ильенковым, М.К. Мамардашвили, Э.Г. Юдиным и др. 1 , а в психологии — С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым и др.2 По мнению Э.Г. Юдина, «в современном познании, особенно в гуманитарном, понятие деятельности играет ключевую, методологически центральную роль, поскольку с его помощью дается универсальная характеристика человеческого мира»3. Ведь деятельность, так же как и сознание, и общность являются универсальными способами бытия человека.
По В.И. Слободчикову, можно выделить по крайней мере четыре общих, но разных смысла, которые вкладывают в понятие деятельности: 1) деятельность — это совокупность результатов и последствий, здесь предполагается двухуровневый подход: индивидуальная продуктивная деятельность и массовое производство; 2) деятельность — процесс преодоления трудностей, здесь деятельность понимается как труд, общий способ или совокупность средств решения проблем и задач; 3) деятельность — процесс самоизменения человека в ходе изменения обстоятельств своей собственной жизни, здесь под деятельностью понимают самодеятельность, пространством которой является «мое» свободное время; 4) деятельность — всеобщий способ отношения сообщества людей к условиям своей жизни (вне своей конкретной результативности), как всеобщая форма практики во всей ее культурно-исторической разверстке, здесь деятельность по преобразованию человеческой реальности4.
Каждое из этих толкований научно обосновано, а их различия связаны со спецификой методологических программ ученых, занимающихся этими вопросами. Все четыре толкования с необходимостью полагают для своего объяснения такие понятия, как сознание и общность. Только исследователи по-разному акцентируют на данных категориях внимание.
Перед исследователями стоит задача выработки общего понятия деятельности, поскольку оно необходимо для выполнения двух важных функций: в качестве объяснительного принципа бытия человека и общества, и средства описания особой формы действительности, являющейся объектом исследования. Г.П. Щедровицкий поставил в своих исследованиях в качестве основной задачи построение общей теории деятельности путем синтезирования различных научно обоснованных представлений о данной категории 5 . Работая в данном направлении, ему удалось добиться заметных результатов. Например, были выявлены важные структурные характеристики деятельности как специфически целостного объекта. Но главная задача так и не была решена. У Г.П. Щедровицкого не объеденены в рамках общей теории деятельности два основных направления исследования: структур общественной деятельности в форме различных массовых производств и структур деятельности отдельного индивида.
В своих работах 60—70 гг. Г.П. Щедровицкий, ссылаясь на Гегеля и Маркса, исходит из положения, что «деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, значительно более широкая, чем сами “люди”. Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама “захватывает” их и заставляет вести определенным образом»6. Однако все же недопустимо превращать деятельность с ее социокультурными нормами в некую надчеловеческую объективированную целостность, находящуюся выше отдельных людей. В подобных случаях человек превращается в вещь для стоящих над ним могущественных сил, теряя самодеятельность и способность к творчеству.
Исходя из данных психологии, задачу построения общей теории деятельности пытался решить А.Н. Леонтьев7. Поскольку он рассматривал деятельность с позиции некоего абстрактного индивида, то становилось неясно, какая конкретная форма деятельности исследуется. Такая позиция не дает конструктивных предложений для решения фундаментальных проблем, например таких, как объяснение филогенеза и онтогенеза психики, развитие человеческих способностей, создание современных образовательных и воспитательных систем и т. д.
Подобные трудности в процессе создания общей теории деятельности породили у некоторых авторов неверие в возможность решения рассматриваемой проблемы 8. Думается, что не стоит разделять подобную позицию, поскольку есть теоретические положения относительно категории деятельности, с которыми согласны если не все, то подавляющее большинство исследователей. У человеческой мысли есть такая особенность, что она не терпит каких-либо преград и рано или поздно их преодолевает.
Теорию деятельности первым стал разрабатывать С.Л. Рубинштейн. Он развивал идеи Марбургской школы неокантианства, в русле которых исследовал деятельностную тематику. В своих работах С.Л. Рубинштейн выделяет в структуре деятельности следующие основные элементы: движение — действие — деятельность9.
А.Н. Леонтьев построил более детальную модель деятельности. Он выделяет два основных ряда компонентов: мотив — цель — условие и деятельность — действие — операция. У А.Н. Леонтьева в качестве структурных элементов отсутствуют движение и план действий. А структурообразующими компонентами выступают цели, на которые направлена деятельность, и мотивы, из которых она исходит. Хотя цель и мотив имеют тесную связь, их, как предупреждает А.Н. Леонтьев, нельзя путать. Мотив — это то, что побуждает совершить определенные частные действия или операции (материальные потребности, моральное удовлетворение, политические интересы и т. п.). Цель — это предполагаемый результат, на достижение которого направлены мотивированные действия.
В адрес психологической теории деятельности выдвигается ряд возражений, которые можно по существу свести к следующему. В центре ее внимания находится толь ко индивидуальная деятельность и анализ отдельных действий, а не коллективная деятельность, от которой как индивидуальная деятельность, так и отдельные действия производны. Отсюда, с точки зрения некоторых исследователей, если не выходить за рамки данного подхода, появляются неразрешимые вопросы. Например, возникает логическая проблема, которую сформулировал В.П. Иванов: «...психологическое исследование деятельности сразу же впадает в противоречие, как только ставит вопрос не о ее носителе, а о ее истоках. Противоречие это заключается в том, что дать деятельностную интерпретацию психики невозможно, не предположив, что способ деятельности, лежащий в основе психики, в свою очередь, в качестве человеческого, является также и психическим»10. Следует особо отметить, что здесь психологическое исследование деятельности вовсе не впадает в противоречие именно потому, что, как известно, той системой, внутри которой возникает и развивается психика, сознание, познавательные способности, деятельность человека, и на основе анализа которой только и можно понять их возникновение и сущность, является специфически человеческий способ бытия в мире — практически преобразованное отношение к действительности, к самому человеку и формам его жизнедеятельности. В историческом плане деятельность и психика человека возникают одновременно как реальность общественных коллективных субъектов 11.
В.В. Давыдов в ответ на обвинение в «излишней индивидуализации» деятельностного подхода начал строить психологическую теорию коллективной деятельности. Мы согласны с его мнением, что нельзя воспринимать коллективную деятельность как расширение деятельности индивидуальной, то есть переносить особенности индивидуальной деятельности на коллективную. Он полагает, что нужно учитывать коммуникацию между индивидами, входящими в коллектив, поскольку человек в процессе деятельности должен уметь понять других и иметь развитый «социальный интерес», то есть смотреть на себя глазами других, таким образом вырабатывая у себя качество само-рефлексии 12.
В философской и научно-психологической литературе критикуется попытка представить возникновение человеческой психики как результат интериоризации внешних предметных действий, их переноса во «внутренний план», то есть как продукта трансформации внешних действий во внутренние процессы. Здесь становится непонятно, как возникает сам «внутренний план», да и само решение проблемы выглядит слишком упрощенным. Это критическое замечание вполне справедливо, но данный недостаток теории деятельности вызван не ее порочностью и не тем, что она завела исследователей в тупик, а необходимостью дальнейшего более глубокого и детального изучения проблемы.
Выдвигать обвинения против теории деятельности сегодня даже стало модно, поскольку сторонники этого подхода связывали его с определенной интерпретацией идей К. Маркса. А все, что связано с этим именем, многими воспринимается как нечто нехорошее. Да и сами марксисты часто оказывались не на высоте, весьма вольно трактуя соответствующие положения основоположников марксизма. Теорию деятельности некоторые считают чуть ли не продуктом тоталитаризма: «Психологическая теория деятельности возникла на фоне закрепощения крестьян и оформления беспрецедентных в истории человечества рабских способов организации производства не только в ГУЛАГе, но и в стране в целом»13.
Иногда критика теории деятельности бывает и не вполне логически корректной. Так, В.С. Лазарев утверждает, что в рамках психологической теории деятельность и поведение выступают как синонимы, а эти понятия необходимо различать. Ведь в мире существуют как деятельностные, так и недеятельностные формы активности 14. «Громадные мощности задействованы на производстве вооружения. Множество людей включены сегодня в систему производства и распространения наркотиков. Создана мощная индустрия развлечений, задающая особый способ существования в этом мире. Признать все это деятельностью нельзя потому, что по определению деятельность — это не только целенаправленная, но и целесообразная (законосообразная в смысле законов развития природы, общества и человека) активность, имеющая творческий характер. Если деятельность определяется как всеобщая форма развития общества и человека, то деятельностью должны признаваться лишь такие формы активности, которые соответствуют законам общественного и личного развития»15. Не-деятельностные формы активности (такие, как гонка вооружений, проституция, наркоторговля и т. п.) В.С. Лазарев предлагает называть формами сознательного поведения, признавая их лишь частью действительности, но никак не деятельностью. С его позицией нельзя полностью согласиться, поскольку в качестве критерия отличия деятельностной формы активности от не-деятельностной он взял их соответствие или не соответствие законам общественного и личного развития. Эти законы сами являются объектами философских и научных дискуссий, в процессе которых высказывается множество альтернативных мнений. И хотя эти проблемы пытаются разрешить достаточно давно, еще остается немало спорных вопросов, на которые не даны адекватные ответы. Существует много взаимоисключающих трактовок общественных и индивидуальных связей, и еще не установлено, какую из них брать в качестве критерия. Предлагаемый В.С. Лазаревым термин «формы сознательного поведения» для обозначения не-деятельностных форм активности, таких как гонка вооружений, проституция, наркоторговля и т. п., крайне неудачен. Какое уж тут «сознательное поведение», скорее бессознательное, вызванное агрессивными инстинктоподобными импульсами! Рассуждения В.С. Лазарева содержат «классическую» логическую ошибку petitio principi (предвосхищение оснований), когда в качестве критерия он использует и предлагает использовать другим недоказанные положения, предвосхищающие достоверность, но не устанавливающие ее с несомненностью.
Недостатком теории деятельности В.С. Лазарев также считает, что в ней «деятельность не определяется как развивающаяся: не выделены ее простейшие формы и формы, соответствующие более высоким уровням развития, не раскрыты условия и механизмы перехода с уровня на уровень... Молодой человек, включившийся в трудовую деятельность, как ее субъект находится на начальном уровне развития. Не определяя качественно различные уровни развития деятельности, мы не можем понять, каким образом возникают новообразования в психике»16. Такое утверждение также нельзя считать вполне корректным, поскольку упомянутые вопросы активно рассматриваются в литературе. В частности, деятельность определялась как развивающаяся уже в 1966 г. в статье В.В. Давыдова «Соотношение поня- тий “формирование” и “развитие” психики», в которой он отмечал: «В психологии отчетливо видны две диаметрально противоположные тенденции в подходе к проблеме “обучение” и “развитие”»17. В.В. Давыдов показывает, что если первая представлена концепцией Ж. Пиаже, в которой противопоставляется «специальное обучение» и «развитие психологических структур», то вторая тенденция отражена в работах последователей Л.С. Выготского и особенно остро формулируется П.Я. Гальпериным, у которого эти понятия теоретически сводятся друг с другом с нахождением их взаимосвязи и постоянного взаимодействия. Обучение должно следовать за развитием, подкрепляя его, — утверждает В.В. Давыдов, — «... такое развитие — всегда есть саморазвитие — его источники и условия коренятся в особенностях строения и структурирования самих психических образований»18.
С онтологической точки зрения, деятельность является специфически человеческой формой отношения к мирозданию, содержание которой целенаправленное и целесообразное изменение окружающей материальной и духовной среды, в результате которого человек преобразует себя, общество, природу, то есть формируется ноосфера. Обычно разделяют интенции деятельности на конкретную и абстрактную цели. Под первой понимают идеальный образ предмета в сознании человека, к которому он устремлен и о чем имеет достаточно четкие представления. Под второй (абстрактной целью) — некое общее благо, идеал (например, справедливость, мир во всем мире, любовь и т. п.), ради достижения которых осуществляется деятельность, но о котором имеются несколько смутные представления.
Цель человеческой деятельности становится предметом философского размышления, начиная с античной философии. Сократ поставил вопрос об иерархии цели, разграничив частную цель какого-либо действия и общую цель, с которым данное действие соотносится. На вершине иерархической пирамиды находится окончательная цель — мыслимое предельное благо, которое является конечным основанием деятельности и которое, по Сократу, не может быть реализовано непосредственно человеком: он может лишь косвенно содействовать его достижению. Платон идею блага признает высшей целью человеческой деятельности. По Аристотелю, человек содержит в себе внут реннюю цель, которая направляет его деятельность, — энтелехию. В Средние века Августин и Фома Аквинский разрабатывают идеи Платона и Аристотеля о целях в рамках христианской ортодоксии. В Новое время Лейбниц возрождает идею внутренней цели, придающую интенцию человеческой деятельности, а Кант — античную идею целепричины, в соответствии с которой цель — одна из причин (начал) бытия.
К идее целепричины человеческой деятельности возвращаются современные авторы. Ф.Т. Михайлов, например, выстраивает такую весьма привлекательную логическую цепочку суждений: «Труд и все иные формы предметной деятельности создали человека... Идея сама по себе (то есть в своей абстракции) не вызывает возражений... Если труд есть целесообразная и произвольная деятельность, то не вернее ли сказать, что именно способность наших животных предков к целеполаганию породила человеческий труд?»19. Другими словами, произошло новое возрождение античной идеи целепричины: цель — одна из причин (начал) человеческого бытия.
При решении вопроса «психика — деятельность» чаще всего обращаются к диалектическому принципу Гегеля «перехода количества в качество». Утверждается, например, что популяция животных, которым мы и обязаны своим существованием на земле, преобразовала свой тип жизнедеятельности в процессе развития непроизвольного поведения в целесообразное и произвольное поведение человека. Ибо у этой популяции в силу изменения внешних факторов (ухудшения условий обитания) стало появляться все больше проблем, которые этим животным приходилось решать, совершенствуя свою деятельность, и тем самым качественно преобразуя и себя. Здесь следует иметь в виду один важный аспект принципа «перехода количества в качество»: новое качество возникает на собственном основании, а количественные изменения лишь готовят для него условия. Другими словами, при искаженном механистическом толковании все-таки первична деятельность, которая в итоге создает человека. При правильной интерпретации диалектического закона человек и деятельность, будучи формой отношения к миру, не могут существовать раздельно. А «животное не «относится» ни к чему и вообще не «относится»; для живот- ного его отношение к другим не существует как отношение»20.
Несмотря на существующие разницы в подходах к трактовке категории деятельности, пожалуй, многие исследователи согласятся, что базовые характеристики деятельности в их предельном обобщении можно уложить в формулу S o O (S — целеполагающий субъект деятельности, О — объект, на который направлена деятельность субъекта, о — взаимосвязь субъекта и объекта, посредством которой и осуществляется деятельность). В разных подходах к категории деятельности в качестве субъекта выступают и индивид, и социальная группа, и человечество как целое.
Здесь важно отметить, что субъект не является чем-то непосредственно данным, а в известной мере — чем-то созданным и сконструированным. Кроме того, в современном мире с его сложными связями субъект как центр принятия решения оказывается под угрозой вне зависимости от того, выступает он как индивид или как социальная группа. Часто субъект превращается в объект чуждой ему воли.
Как известно, латинские слова «subjeсt» и «object» являются сложными, каждое состоит из двух простых. «Subjeсt» — из «sub» (до) и «jeсt» (действие, акт), а «object» — из «ob» (вне) и «ject». «Ject» является производным от «jacio» (бросаю, кладу основание). Даже из такого семантического рассмотрения видно, что субъект и объект связывает «действие», служащее основанием как для субъекта, так и для объекта. Субъект тождествен со своими деяниями, «существуя не помимо и вне их, а в них... субъект, определяясь своими деяниями, этим самоопределяется»21. Ведь в процессе деятельности меняется как объект, так и сам субъект, поэтому и выбран символ о . Характер такой связи (взаимного отражения), возведенный даже в доминанту, положен в основу третьего подхода к категории деятельности.
Каждая смена культурных парадигм дает свои ответы на вопросы о месте и роли человека в его отношении (деятельности) к бытию. Проблема отношения субъекта и объекта была, есть и будет одной из центральных в философии. Данные отношения сложно рассматривать вне деятельности. Существуют две крайние точки зрения на решение проблемы отношения субъекта и объекта: признание объекта как нечто чуждого и иного субъекту и отождествление субъекта с объектом с сохранением феноменологического различия того и другого.
Противопоставление субъективной достоверности и объективного мира впервые было сделано Р. Декартом, который тем самым поставил вопрос об отношении внутреннего мира сознания и внешнего мира реальности. Начиная с Декарта, европейская философия исходила из самоочевидности сознания и из не самоочевидности остального мира. Поэтому здесь появился вопрос: «Возможен ли мир, и если возможен, то как?». Ряд течений философской мысли Х1Х—ХХ вв., пытаясь преодолеть дихотомию внутреннего и внешнего миров, стремились найти ответы на эти вопросы. Исследовались философские проблемы, связанные с деятельностью. Есть также попытка снять противоречие между внутренним миром сознания и внешним миром реальности.
Действие субъекта в процессе деятельности должно быть свободным, в противном случае это уже будет и не субъект. М.К. Мамардашвили дает одно из лучших определений свободного действия: «Представим себе, что действие есть некое сочетание разных шагов, например, сочленение нескольких шарниров, и оно происходит таким образом, что ни один из шарниров не производит никакого спонтанного неконтролируемого движения, не порождаемого самим действием. То есть внутри действия не только нет никакой «пляски Витта», но и вообще не порождаются никакие другие движения, кроме одного. Такое действие, внутри которого нет никаких элементов, имеющих зависимое происхождение, и называется свободным, и такое действие безошибочно»22. На первый взгляд может вызывать сомнение суждение М.К. Мамардашвили о том, что любое свободное действие является безошибочным. Это сомнение связано с обыденными взглядами, в соответствии с которыми свободное действие носит бесконтрольный и спонтанный характер. Но это не так. Свободное действие контролирует себя логикой решения стоящей перед субъектом задачи, законом внутри нас, оптимальным вариантом достижения цели. Свободное действие детерминирует свободную деятельность. Свободной является такая деятельность, которая имеет свободу в постановке цели, выборе средств ее достижения и в определении вида результата. Деятельность должна быть свободной игрой духовных и физических сил. Свободная дея- тельность и есть творчество, необходимыми условиями которого являются ответственность и дисциплина.
Итак, современная теория деятельности должна содержать в себе глубокую концептуальную разработку упомянутых проблем в их логической взаимосвязанности.
Список литературы Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности
- Батищев Г.С. Неисчерпанные возможности и границы применения категории деятельности//Деятельность: теория, методология, проблемы. М., 1990;
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993;
- Швырев B.C. Задачи разработки категории деятельности как теоретического понятия//Методологические проблемы исследования деятельности: Труды ВНИИТЭ. М., 1976;
- Щедровицкий Г.П. Избр. труды. М., 1995; Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997. 2 См.:
- Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. М., 1997; Он же. Основы общей психологии: В 2 т. М., 1993;
- Давыдов В. В. О перспективах теории деятельности//Вестник МГУ. Сер. 14: Психология. 1993. № 2;
- Леонтьев А.Н. Философия психологии. М., 1994.
- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1975. С. 272.
- Слободчиков В.И. Деятельность как антропологическая категория//Вопросы философии. 2001. № 3. С. 49. 5 См.:
- Щедровицкий Г.П. Указ. соч. 6 Он же.
- Исходные представления и категориальные средства деятельности//Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М., 1975. С. 84-85. 7 См.:
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982.
- Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть или возрождение?//Вопросы философии. 2001. № 2. С. 65.
- Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды...
- Иванов В. П. Человеческая деятельность -познание -искусство. Киев, 1977. С. 62. 11
- Взаимосвязь деятельности и психики в процессе их возникновения и развития -специальная тема анализа, которая не является целью данного исследования. 12 См.:
- Давыдов В.В. Последние выступления. М., 1998.
- Зинченко В.П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста//Вестник МГУ. Сер. 14: Психология. 1993. № 2. С. 50. 14 См. более подробно:
- Лазарев B.C. Кризис «деятельностного подхода» в психологии и возможные пути его преодоления//Вопросы философии. 2001. № 3. 15 Там же. С. 36. 16 Там же.
- Давыдов В.В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики//Обучение и развитие. М., 1966. С. 36. 18 Там же.
- Михайлов Ф.Т. Предметная деятельность... чья?//Вопросы философии. 2001. № 3. С. 14-15.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 29.
- Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1997. С. 154.
- Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 146.