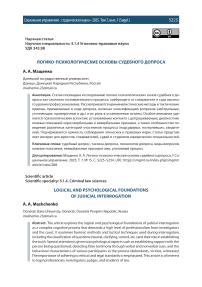Логико-психологические основы судебного допроса
Автор: Мащенко А. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 7, вып. 1S, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию логико-психологических основ судебного допроса как сложного познавательного процесса, требующего от следователя и суда высокого уровня профессионализма. Рассматриваются криминалистические методы и тактические приемы, применяемые в ходе допроса, включая классификацию вопросов (нейтральные, уточняющие, проверочные и др.) и их роль в установлении истины. Особое внимание уделяется психологическим аспектам: установлению контакта с допрашиваемым, диагностике ложных показаний через вербальные и невербальные признаки, а также особенностям поведения различных категорий участников процесса (подсудимых, потерпевших, свидетелей). Подчеркивается важность соблюдения этических и правовых норм. Статья представляет интерес для юристов, следователей, судей и студентов юридических специальностей.
Судебный допрос, тактика допроса, психология допроса, виды вопросов, ложные показания, невербальные признаки лжи, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14132746
IDR: 14132746 | УДК: 343.98
Текст статьи Логико-психологические основы судебного допроса
Учитывая, что допрос является познавательным процессом, то его проведение требует от лица его проводящего значительных интеллектуальных, организационных, волевых усилий. Участники данного следственно-судебного действия применяют криминалистическую методологию, организационные тактико-криминалистические приемы, а в своем поведении должны проявлять сдержанность и следовать конституционным принципам моральности.
Описание исследования
Различные формы и функции вопросов, задаваемых в ходе судебного допроса, приводит П. В. Копнин. Автор раскрывает различный характер вопросов, поступающих от суда и сторон в ходе судебного допроса. В частности, упомянутый автор отмечает специфику нейтральных вопросов, в которых значение приобретает невербальная их составляющая. Так, изменяя интонацию, нейтральный вопрос, задаваемый допрашиваемому лицу, может стать предположением, которое требует подтверждения, или риторическим, который теряет форму вопроса, сохраняя лишь эмоциональность [1]. В этом проявляется психолого-коммуникативная сущность судебного допроса. По данному поводу поддерживаем рекомендацию суду отслеживать невербальные проявления допрашиваемого лица.
По поводу дополнительных вопросов, задаваемых лицу на вопросно-ответной стадии судебного допроса, исследователь Е. А. Сухоруких отмечает, что целью таких вопросов является установление обстоятельств, которые, по мнению суда, могут быть известны только допрашиваемому [2]. Дополнительные вопросы рекомендовано задавать для устранения возникших информационных пробелов в показаниях, данных допрашиваемым лицом на стадии свободного рассказа.
Уточняющие вопросы, по мнению авторов, касаются сущности показаний и направлены на более полное и точное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого дела. Такие вопросы являются способом разоблачения ложных показаний, они могут служить основой для проверки и оценки показаний допрашиваемого лица [3; 4; 5]. Уточняющие вопросы могут быть поставлены с целью устранения противоречий в показаниях, вызванных добросовестным заблуждением допрашиваемого лица. Такие вопросы поступают от суда и сторон, стремящихся уточнить позицию допрашиваемого по отдельным эпизодам события.
Напоминающие вопросы не связаны с сущностью допроса по расследуемому делу, они помогают допрашиваемому лицу вспомнить, а суду выяснить необходимые факты. Такие вопросы приобретают значение в преодолении психологической напряженности, препятствующей активизации памяти допрашиваемого лица. Напоминающие вопросы служат задаче установления психологического контакта между участниками допроса.
Проверочные и детализирующие вопросы направлены на проверку полученной информации. Авторы подразделяют их на детализирующие вопросы, вопросы о первоисточнике показаний, которые сообщает допрашиваемый, а также вопросы, относительно точно установленных по уголовному делу фактов [6; 7; 8]. Проверочные и детализирующие вопросы служат задаче преодоления противодействия расследованию со стороны допрашиваемого лица, осуществляемому путем замалчивания или искажения отдельных элементов предоставляемых показаний.
Отмечаем, что вопрос, который не содержит никакой значимой информации, не приведет к полноценному ответу. Правильно поставить конкретный, определенный, то есть узкий, закрытый вопрос, в котором неизвестное обозначено его известными признаками, возможно только тогда, когда предпосылкой этого вопроса, его базисом, фактической основой выступает истинное непротиворечивое, достоверное знание, суждение-сообщение. По этому поводу можем добавить, что, как считают работники следственных и судебных органов, с которыми мы взаимодействовали, умение постановки вопросов и применение их разливных форм составляют искусство допроса. Искусство допроса является показателем высокого профессионализма суда, а также представителей сторон судопроизводства.
Нам представляется верным, как современные авторы распределяют вопросы, задаваемые в ходе судебного допроса, по следующим видам: контрольные, вытесняющие (исключающие), утвердительные, ожидающие (положительные и отрицательные), предполагающие. Их использование возможно как во время прямого допроса, так и во время перекрестного допроса [9; 10; 11]. Применение вопросов указанных видов составляет тактико-криминалистические приемы проведения судебного допроса. Заметим, что указанные приемы представляют собой элементарное действие, направленное на преодоление конкретного препятствия достижению назначения уголовного судопроизводства. Основным препятствием в судебном процессе признается противодействие расследованию. В рассматриваемом следственно-судебном действии противодействие расследованию реализуется путем замалчивания или искажения информации, известной допрашиваемому лицу. Очевидно, что приведенная классификация вопросов позволяет выбрать и применить эффективные тактико-криминалистические приемы преодоления противодействия судебному рассмотрению уголовного дела, осуществляемого допрашиваемым.
В теории уголовного процесса и криминалистики проблемным остается понятие наводящего вопроса [12; 13; 14]. Постановка наводящих вопросов в ходе судебного допроса запрещена законодательно (ст. 189 УПК РФ). Наводящие вопросы понимают как вопросы, задаваемые в ходе допроса допрашиваемым при производстве по уголовному делу, имеющие своей целью получение от допрашиваемого информации, значимой для разрешения уголовного дела, содержание которой изначально заложено в структуру вопроса. Считаем, что понятие наводящего вопроса необходимо согласовывать с характером вводной информации. По мнению авторов, использование в этом случае именно узких, закрытых вопросов служит основным вариантом наводящего вопроса [15; 16; 17].
Допрос включает в себя такие общие аспекты, как коммуникативность, интерактивность и перцептивность [18; 19; 20]. Данные понятия привлечены в криминалистическую тактику из науки коммуникативной прагматики. Применение указанных понятий для описания судебного допроса позволяет акцентировать внимание на его информационную, коммуникативную, психологическую сущность.
В судебном допросе выделяются стадии подготовительная, рабочая, заключительная. Рабочая стадия распределена на этапы: вступительный, свободного рассказа и вопросов-ответов. Представленная структура судебного допроса позволяет конкретизировать цель и задачи каждого этапа и применяемые тактико-криминалистические средства для их достижения и решения.
Составляющей проведения судебного допроса является установление психологического контакта с допрашиваемым лицом. Для этого перед проведением самого допроса, рекомендовано изучить личностную информацию о допрашиваемом.
Важным этапом допроса является установление психологического контакта допрашивающего с допрашиваемым. Рекомендовано создавать при допросе благоприятную атмосферу, побуждающую допрашиваемого к откровенному общению.
Авторы обращают внимание как на негативное явление возникновение эмоциональных и информационных барьеров при допросе [21; 22; 23]. Информационный подход к описанию судебного допроса позволяет признавать получаемую информацию, как основной ресурс процесса судебного доказывания. В таком понимании критерием эффективности судебного допроса называем максимизацию извлечения информации из ее источника, каким является сознание и память допрашиваемого лица. Существенным риском судебного допроса становится риск потери информации.
Установление психологического контакта между допрашивающим и допрашиваемым включает адаптацию допрашиваемого к обстановке допроса [24]. Комплексное применение тактико-криминалистических рекомендаций по установлению психологического контакта служит задаче максимизации объема информации, извлекаемой в ходе судебного допроса и преобразуемой в доказательственную.
Поведение подсудимого в суде, так или иначе, связано с его отношением к инкриминируемого ему преступлению. Это отношение обусловлено множеством факторов, среди которых определяющее значение имеют: 1) правосознание подсудимого; 2) влияние условий жизни и воспитания; 3) степень доказанности вины; 4) реальность наказания за совершенное деяние [25; 26; 27].
Показания потерпевших характеризуются, как правило, эмоциональной насыщенностью. Суду в таких случаях рекомендовано нейтрализовать гиперактивность потерпевшего. Это удается сделать путем отвлечения его внимания на другие события, имеющие важное значение для потерпевшего [28; 29; 30].
Значение приобретает умение допрашивающего быстро и незаметно устранить нежелательное психическое состояние допрашиваемого. В ходе допроса важно использовать объективный подход к оценке его личности и подходить к вопросу оценки личности допрашиваемого не только с негативной стороны, но и с положительной [31; 32; 33].
В криминалистике определены психологические признаки ложных показаний. Для допроса в суде наиболее важными из них можно назвать: осознание допрашиваемым лицом того, что он говорит неправду; осознанное и умышленное сообщение им ложных показаний; наличие у данного лица конкретной цели. «…Всегда есть лица (судья, адвокат, прокурор), которые достоверно не знают об обмане. В психологическом контексте ложные показания проявляются в двух видах: активном и пассивном. Активное проявление — это несообщение допрашиваемым лицом сведений, важных для рассмотрения дела в суде, а также их замалчивания» [34].
Возможны ситуации добросовестного заблуждении допрашиваемого. Причинами такого явления криминалисты называют: неполноту восприятия события; «наслоение», которое состоялось в процессе «сохранения» воспринятого в памяти; незнание, непонимание уровня полноты показаний, необходимого субъекту допроса; субъективные недостатки (пробелы) психологии запоминания; психологическое воздействие субъекта судебного допроса (судьи, адвоката, прокурора) путем постановки наводящих вопросов [35; 36; 37].
Подсудимые, особенно те, что впервые совершили преступление, испытывают страх, стыд, они не знают, что им делать и кто в этом случае сможет им помочь. Кроме того, на лицо, совершившее преступление, часто уже сам факт судебного допроса оказывает соответствующее психологическое воздействие.
Относительно феномена самовнушения [38; 39], то целесообразно констатировать, что степень этого психического процесса у слабовольных, психически больных и детей проявляется выше, у остальных — ниже. Субъекту допроса это необходимо учитывать, по крайней мере, для того, чтобы избежать клеветы или самооговора со стороны допрашиваемого.
Склонность к фантазированию также является негативным фактором формирования показаний допрашиваемого и требует большого количества времени от субъекта доказывания для диагностики психического состояния допрашиваемого, выделения истины из его рассказа.
Результативность судебного допроса во многом определяется достоверностью извлекаемой в ходе допроса информации. Суд, другие субъекты судебного допроса применяют различные тактико-диагностические приемы восприятия, проверки и оценки показаний. Криминалистическая тактика выработала рекомендации по диагностированию вербальных и невербальных реакций лица, подвергаемого судебному допросу. Приведем основные признаки дачи заведомо ложных показаний:
-
— изменение скорости и громкости речи (ложь обычно преподносится мягким тоном и высоким голосом);
-
— искажение голосовой тональности, что связано с нарушением дыхания, что приводит, в свою очередь, к изменению темпа, ритма, тональности речи допрашиваемого;
-
— наигранная демонстрация уважительного отношения к суду и другим участникам судебного заседания;
-
— демонстрация своего плохого самочувствия или болезненного состояния, жалобы на охвативший допрашиваемого озноб или жар;
-
— высказывание претензий к присутствующим в судебном заседании, жалобы на чрезмерный шум, духоту, невозможность свободно дышать, ощущения угрозы со стороны присутствующих и т. п.;
-
— нарочитое подчеркивание собственной занятости, груза ответственности, служебных обязанностей, ограниченности во времени;
-
— агрессивное отношение к участнику судопроизводства, который формулирует вопросы допрашиваемому, высказывание недоверия к нему, упреки в предвзятом отношении и т. п.
Авторами рекомендовано рассматривать ответы допрашиваемого в единстве вербальной части и невербальных реакций [40; 41; 42]. Также рекомендовано рассматривать в динамике форму и содержание ответов на вопросы, задаваемые судом и сторонами. Так, значение приобретает снижение силы возражений, предоставляемых в ходе ответа на вопрос, причем, данный признак свидетельствует о виновности лица в инкриминируемом деянии. У невиновного лица, наоборот, возражения по обвинению возрастают с ходом ответов на поставленные вопросы. Рекомендовано также наблюдать за степенью детализации фактов, представляемых в показаниях. Так, виновное лицо нередко стремится заменить детали события общими рассуждениями о его ходе и последствиях. Показателем неискренности допрашиваемого также называют изменение его отношения в ходе дачи показаний к допрашивающему субъекту судопроизводства. Лицо, дающее показания, может при этом многократно подчеркивать собственную добропорядочность и несомненную честность. Важным индикатором лжи криминалисты называют изменение лексики в показаниях путем повторения слов и определений, использованных другими участниками судебного заседания: допрашиваемый переходит на несвойственную уровню его образования и воспитания лексику. При этом допрашиваемое лицо выдерживает паузы или просит повторения вопроса, чтобы иметь время для подготовки неправдивого ответа. Также следует обращать внимания на несоответствие фактов, излагаемых в показаниях, другим доказательствами и достоверно установленным фактам. Сигналом ложных показаний также являются несоответствия в самих показаниях допрашиваемого лица [43; 44; 45].
Отметим значение невербальных признаков лжи, таких как непроизвольные изменения темпа дыхания, неконтролируемые жесты и мимика, дрожание рук, соматические признаки и т. п.
Заключение
В общем, в судебном заседании суд регулирует его атмосферу и конструктивность. Представители сторон также выполняют регулятивную роль в судебном заседании. Действия субъектов судопроизводства, в данном плане, сводятся к предупреждению недисциплинированности со стороны других лиц, присутствующих в зале судебного заседания. Предотвращению и пресечению подлежат выкрики, несанкционированные заявления, провокационные жесты, телесные движения. Указанные условия свойственны, собственно, и для судебного допроса.
Во время всего судебного доказывания суд сохраняет инициативу, что проявляется в сохранении деловой атмосферы и спокойного тона судебного заседания, использовании организационных мер по предотвращению и пресечению нарушений порядка судебного заседания, а также в отслеживании психологических характеристик допрашиваемого с целью получить основания для внутреннего убеждения судьи о достоверности и правдивости получаемых показаний.