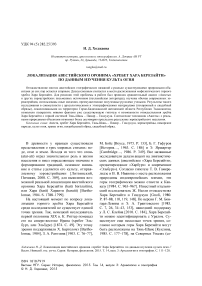Локализация авестийского оронима "хребет Хараберезайти" по данным изучения культа огня
Автор: Ходжаева Наргис Джомиевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Отождествление многих авестийских географических названий с реально существующими природными объектами до сих пор остается спорным. Дискуссионным считается и место расположения мифологического горного хребта Хара Березайти. Для решения этой проблемы в работе был проведен сравнительный анализ «Авесты» и других зороастрийских письменных источников (пехлевийская литература), изучены обычаи современных зороастрийцев, использованы иные сведения, преимущественно полученные русскими учеными. Результаты такого исследования в совокупности с археологическими и этнографическими материалами (похоронный и свадебный обряды), локализованными на территории Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, позволили подкрепить новыми фактами уже существующую гипотезу о возможности отождествления хребта Хара Березайти с горной системой Тянь-Шань - Памир - Гиндукуш. Соотнесение топонимов «Авесты» с реальными природными объектами позволяет более достоверно проследить расселение зороастрийского населения.
Авеста, хребет хара березайти, тянь-шань - памир - гиндукуш, памирские народы, зороастрийцы, культ огня, храмы огня, погребальный обряд, свадебныйобряд
Короткий адрес: https://sciup.org/147219294
IDR: 147219294 | УДК: 94
Текст научной статьи Локализация авестийского оронима "хребет Хараберезайти" по данным изучения культа огня
В древности у иранцев существовали представления о трех мировых стихиях: воде, огне и земле. Исходя из того что огонь (atar-atr) играл значительную роль в жизни населения и имел определяющее значение в формировании традиций, основное внимание в статье уделяется его культу, отправляемому зороастрийцами [Литвинский, Пичикян, 2000. С. 309], для выявления возможной реальной локализации авестийского оронима Хара Березайти (harā bərəzaitim), или Хара (harā) Хараити (haraiti) [Bartho-lomae, 1904. S. 1788 – 1799].
На настоящий момент по вопросу локализации горного хребта Хара Березайти среди исследователей не существует единой точки зрения. Так, немецкий исследователь первой половины XIX в. К. Риттер помещал его на северо-востоке Ирана (хребет Эль-бурз, или Эльбурс) [1874. С. 49]. Эту точку зрения поддерживали Х. Бартоломэ [Bartho-lomae, 1904], З. А. Рагозина [1903. С. 76–77],
М. Бойс [Boyce, 1975. P. 133], Б. Г. Гафуров [История…, 1963. С. 186] и Э. Яршартер [Cambridge…, 1986. P. 349]. Все названные исследователи делали акцент на лингвистических данных (авестийское «Хара Березайти», среднеперсидское «Харбурз» и современное «Эльбурз»). Согласно гипотезе Т. В. Гамкре-лидзе и В. В. Иванова о месте расположения прародины индоевропейских племен, эти горы географически можно отнести к Кавказу [1984. С. 963–967]. Известный итальянский исследователь Ж. Ньоли отождествлял Хара Березайти и Гиндукуш [Gnoli, 1980. P. 87–88, 110, 119, 148]. По версии Г. М. Бон-гард-Левина и Э. А. Грантовского [1983. С. 7, 26, 34–43, 153], нашедшей поддержку у Л. С. Клейна [2010. С. 184], Хара Березай-ти можно идентифицировать с Уралом. Существуют еще несколько точек зрения, согласно которым горы Хара Березайти могут быть расположены на Тянь-Шане [Куклина, 1985. С. 177–178], на Северных Увалах (се-
Ходжаева Н. Д. Локализация авестийского оронима «хребет Хара Березайти» по данным изучения культа огня // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. С. 111–120.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 3: Археология и этнография
веро-запад России), на Западном Памире [Жарникова, 1986. С. 31–41]. По В. И. Бушкову [1998. С. 60–69], Ж. Муше [1972. P. 83] и Э. Башири [1994. P. 15], Хара Березайти – это Памир (отметим, что последнее предположение не подкреплено аргументами). И, наконец, существует еще одна гипотеза, выдвинутая В. Гейгером в конце XIX столетия, но оставшаяся незамеченной. Согласно ей, горы Хара Березайти являются восточной границей иранского мира и должны отождествляться с «великим центральным высокогорьем Азии – Памиром, Тянь-Шанем и Алаем» [Geiger, 1886. P. 101–102]. Почти все названные версии строились в основном на лингвистическом материале.
Локализация мифического хребта Хара Березайти, несмотря на богатое историографическое прошлое этого вопроса, не теряет своей научной актуальности, поскольку напрямую связана с установлением границ распространения зороастризма, трансформацией устной авестийской традиции в письменную и этнической атрибуцией последней. К вопросу о локализации гор Хара Березайти автор статьи обращалась не один раз [Ходжаева, 2003. С. 45–67; 2013. С. 65– 97]. Основу методики наших исследований составляет комплексный подход, заключающийся в использовании археологического и лингвистического материалов, данных топонимии, сравнительного анализа письменных источников. Появившиеся в процессе исследования новые материалы вводятся в научный оборот в рамках данной статьи. Особое внимание будет сконцентрировано на этнографическом материале с территории Западного и Восточного Памира, административно относящейся к Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Эти данные вместе с материалами Авесты (Zend-Avesta, 1880; 1883), в том числе в русских переводах [Авеста…, 1998], и зороастрийскими источниками на пехлевийском языке («Бундахишну») [Bundahis, 1880; Зороастрийские тексты…, 1997], «Дадестан-и Денигу» [Dādistān-ī…, 1882], «Меног-и Храду» [Dīnā-ī…, 1885], «Пехлевийская Ривояту» [Pahlavi Rivōyat…, 1990], с привлечением сведений русских исследователей начала XX в. (ценны тем, что дают доскональные описания быта и традиций населения Памира, а также отражают топонимию, орографию и гидрографию региона, относящиеся к Древности, Средневековью и
Новому времени), являются элементами доказательной базы для возможного отождествления авестийских гор Хара Березайти с горной системой Тянь-Шань – Памир – Гиндукуш. Это и становится целью настоящего исследования.
Каковы же были формы проявления культа огня у зороастрийцев? Наиболее архаичным его элементом является почитание домашнего очага. В день поминовения туда ставили пимеки – священные лучинки, возжигавшиеся в честь усопших предков. Жертвоприношения, которые были просты и совершались в каждой семье, состояли в том, что в пламя в очаге, поддерживаемое постоянно, бросали частицы пищи [Дорошенко, 1982. С. 19].
Со временем жертвоприношения приобрели обрядовый характер и огню приносили в жертву животных. Стали появляться алтари огня. К концу индоиранской эпохи (рубеж II тыс. до н. э.) богослужения проводились уже в храмах огня. Древнейший храм огня датируется IX–VIII вв. до н. э. Существовал свято чтимый главный храм с огнем, дававшим начало другим огням. Наибольшее распространение эти храмы получили при Сасанидах (226–651 гг.), когда в Иране зороастризм был признан государственной религией [Duchesne-Guillemin, 1962. P. 26–3; Дорошенко, 1982. С. 20]. Это свидетельствует о том, что в Сасанидском государстве, в которое входили и некоторые районы западной части Центральной Азии, сохранились описанные в «Авесте» социальные группы общества, сложившиеся в конце II тыс. до н. э.
Об арийском происхождении таджиков Западного Памира и о том, что их предки были огнепоклонниками ( атэш-пэрэст ), говорят русские исследователи начала XX в. [Аристов, 1900. С. 71; Зайцев, 1903. С. 55; Серебренников, 1900. С. 68, 71].
На территории Горно-Бадахшанской автономной области (Западный и Восточный Памир) были обнаружены и исследованы три средневековых храма огня. Два храма, круглых в плане, найдены на Западном Памире, на территории городища Кафыркала (объекты I–IV) в Шугнанском районе [Бубнова, 1990; 1991; 1997]. В одном из них очаг находился в середине зала (Кафыркала III) [Бубнова, 1990. С. 308–310]. Третий храм – Зонг, находился на Восточном Памире, в Ишкашимском районе [Бубнова, 1982. С. 179–
181]. Имел планировку свободного креста. Известно, что план культовых сооружений весьма часто определяется религиозными, нередко астральными символами [Толстов, 1962. С. 133–134]. Существует мнение, что крест у древних иранцев ассоциируется с символом солнца [Немоевский, 1927. С. 70; Хлопин, 1962. С. 17; Рапопорт, 1971. С. 51]. Заметим, что солнечным божеством масса-гетов, как и других древнеиранских племен, был Митра, а крест – его символ. По мнению И. Гершевича, Митра приобрел солярные черты именно на «востоке Ирана» [Gershevitch, 1959. P. 38, 41–42], что весьма важно для интерпретации археологического материала с Памира, бывшего восточной частью данной территории. Канонические храмы огня сасанидского времени в плане представляли собой круг или квадрат [Schippmann, 1971. S. 497, 499, 502, abb. 83– 85]. Соответственно планировка храмов Ка-фыркала I–IV и Зонг отвечает требованиям проведения зороастрийских ритуалов, связанных с поклонением огню.
Сам факт наличия храмов огня на Памире, несомненно, свидетельствует о том, что в верованиях древних памирцев огонь занимал одно из главных мест. Круглая планировка Кафыркалинских храмов – это еще одно свидетельство тесной связи огня и солнца.
Домусульманские пережитки сохранились во многих сферах культуры и повседневной жизни у горных таджиков до настоящего времени. Это хорошо прослеживается в этнографическом материале с территории Западного Памира. Изучая древние представления памирцев, Б. А. Литвинский пришел к выводу, что «именно памирское население сохранило в столь ярком виде реликты древних верований и обычаев, доносящих до нас осколки религии индоиранской эпохи» [1981. С. 115]. Особенно они заметны в обычаях и обрядах, связанных со смертью и похоронами. Г. П. Снесарев справедливо отмечал, что «погребальная обрядность менее всего подвержена модернизации, в силу чего именно этот комплекс верований и обрядов донес до нашего времени самые стадиально-различные представления и культовые действия» [1969. С. 107].
Остановимся на поминальном обряде хуфцев, бартангцев и шугнанцев – памирских народов, проживающих в долинах рек Хуф, Бартанг и Гунт на территории Горно-
Бадахшанской автономной области, и проследим, какие доисламские верования сохранились в ритуальной практике исмаили-тов Западного Памира. Так, в этих районах на четвертый день после смерти устраиваются поминки по усопшему – зажигание светильника («cirow pisid», «cirōuupaδid», другое название – «сharogi ravshan») 1. С утра проводится полное очищение дома – «xu-naalolcid», «dekalolcid» и «cud toza ceg». Вечером начинают читать kalima (молитву), затем происходит пение траурных песен – «mado». Ближе к полуночи в дом загоняют белого или серого барашка, которого закалывают. Его мясо целиком идет на приготовление общепамирского поминального блюда «бог». Халифа берет каменный светильник – «cirow», наполовину наполненный подогретым топленым маслом, и погружает в него свитый из ваты фитиль. Он зажигается при помощи лучинки и ставится перед халифой. Начинается чтение молитвы. Через некоторое время родственник покойного забирает светильник и идет к очагу. Каждый из членов семьи умершего должен подержать светильник, стоя на выступе очага. Затем светильник относят в кладовую. Все приступают к еде, на чем поминки заканчиваются [Андреев, 1953. С. 196–201; Юсуфбекова, 2001. С. 147–148; Лашкариев, 2008. С. 101–105].
Заметим, что обряд «зажигания светильника» существует также в Афганском Бадахшане, Северном Пакистане и Сарыколь-ском районе Китая [Лашкариев, 2008. С. 104], расположенных в Гиндукуше.
В погребальном обряде современных зороастрийцев также присутствует зажигание светильника. Так, в доме, где лежал покойник, в месте, где находилась его голова, ставится горящий светильник, окруженный четырьмя сырцовыми кирпичами [Boyce, 1977. P. 152–153]. На третий день родственники начинают приготовления для почитания божеств, связанных с судьбой души. Дом и улица, как и у горнобадахшанцев, должны быть очищены.
У горнобадахшанцев в течение трех дней после смерти женщина должна бросать в огонь очага щепотку муки, смешанную с коровьим маслом. Считается, что дух умершего «arvoh» питается запахом масла. В те- чение также трех дней, по вечерам, зажигаются сальные свечи «dalilak» и «cirowak», которые заранее погружали в жир 2 [Андреев, 1953. С. 195; Юсуфбекова, 2001. С. 149– 150]. Они служили для освещения пути покойного. Приведенные выше примеры подтверждают точку зрения Б. А. Литвинского о том, что данный обряд следует рассматривать как пережиток культа огня [1972. С. 139–140].
Для нас важен еще один интересный обычай – прижизненные поминки «zinda davhat» 3 [Андреев, 1953. С. 107; Мухидди-нов, 1982, С. 81; Стеблин-Каменский, 1995. С. 101–105; Юсуфбекова, 2001. С. 154–159], которые проводятся не только на Памире, но и в других районах Таджикистана. По сути, они повторяют поминальный обряд по покойному: созываются гости, режутся жертвенные животные, читаются специальные молитвы, шьется особая одежда [Стеблин-Каменский, 1995. C. 101]. Цель данного ритуала заключается в обеспечении благополучного переселения души в рай. Непосредственную помощь ей при этом оказывает баран, зарезанный на поминках. Горнобадахшанцы считают, что душа покойника, держась за шерсть барана, благополучно переходит мост Сират («пул-и Салот» у хуфцев, «пул-и Сирот» у шугнанцев) и попадает в рай [Андреев, 1953. С. 205; Юсуфбекова, 2001. С. 154–157].
В Авесте и в Дадестан-и Деник» говорится, что душа усопшего находится на земле три ночи и затем по мосту Чинват, который находится на горе Хара Березайти, переходит в потусторонний мир. Это означает наличие абсолютно одинаковых представлений о перемещении души покойного у древних иранцев и современных горноба-дахшанцев.
В «Книге о праведном Виразе» [2001. С. 96–130] дается описание моста Чинват. Так, Вираз во сне путешествовал в загробный мир в сопровождении богов Сроша и Адура. С их помощью Вираз попал к мосту Чинват, где он видел души усопших, которые первые три ночи сидят возле мертвых тел и читают «Гаты». Заметим, что у горно-бадахшанцев при обряде «зажигание светильника» молитвы читаются таким же тоном, каким исполняются «Гаты» Заратуш- тры, а также бытуют представления, связанные с допросом покойника ангелами Мукар и Накир: после наступления смерти они берут душу покойного с собой в могилу и вселяют обратно в тело, а после допроса снова уносят ее и лишь тогда душа покойного попадает в ад или рай [Юсуфбекова, 2001. С. 130]. Это дополнительные свидетельства трансформации верований древних иранцев у современных таджиков.
Этнографические исследования также показали, что почитание огня среди горно-бадахшанцев сохранилось и в обрядах, связанных с проведением свадьбы. Так, после обручения «никох» невесту облачают в лучшие наряды. В это время на выступе очага возжигается курение – «stiraxm». После молодая подходит к выступу очага и кончиками пальцев правой руки дотрагивается до него, а затем проводит пальчиками по губам и по лбу, повторяя это трижды. Затем, собрав немного золы от очага, кладет ее в голенище сапога [Андреев, 1953. С. 171; Мо-ногарова, 1972, С. 140–141]. Возжигание священного курения на очаге проводят также и в доме жениха перед приходом невесты.
Таким образом, в похоронных и свадебных обрядах вполне отчетливо прослеживаются элементы доисламских верований, где особое значение придается огню – одной из священных стихий в зороастризме.
Следует отметить, что в одной из своих последних работ известный американский иранист Р. Фрай выдвинул гипотезу, согласно которой в Центральной Азии в древности существовало три формы верований и религиозной практики: старая местная практика (бытовала в индоиранский период), арийские верования и, наконец, новая вера Зороастра, существовавшая наряду со многими вариантами всех трех форм [2000. С. 180]. На наш взгляд, все три формы верований и религиозной практики, о которых говорит Р. Фрай, прослеживаются у горнобадахшан-цев в похоронном и свадебном обрядах.
В Авесте и в пехлевийской литературе отмечается, что мост Чинват находится там же, где и обитель Митры, т. е. в горах Хара Березайти. Следует отметить, что в «Большом (или Иранском) Бундахишне» [Bar-tholomae, 1904. S. 597; Pavry, 1929. P. 12] и в «Дадестан-и Дениге» встречается название еще одного оронима – пик Даити (Dāitīk). В источниках говорится, что мост Чинват простирается от подножия Харбурза на севере до подножия «горы правосудия» (čikāt i dāitīk) на юге. Возможно, пик Даити является одной из вершин в системе гор Хара Бе-резайти.
Таким образом, сравнительный анализ письменных источников, археологического и этнографического материала с территории Горно-Бадахшанской автономной области, обрядовой деятельности современных зороастрийцев позволяет подкрепить новыми фактами нашу точку зрения о возможности включения горной системы Тянь-Шань – Памир – Гиндукуш в число географических объектов, отождествляемых с авестийским оронимом Хара Березайти.
Археологических и этнографических материалов с территории Афганистана, Пакистана и Китая, куда входит горная система Гиндукуш, известно не много, а степень их изученности не высока. Поэтому в перспективе встает задача более глубокого изучения круга источников, связанных с вопросом о локализации авестийских гор Хара Березай-ти, происходящих из этих районов. Это позволит расширить круг фактических сведений, работающих в пользу нашей гипотезы, а также по-новому взглянуть на некоторые вопросы, связанные с географией «Авесты».
Список литературы Локализация авестийского оронима "хребет Хараберезайти" по данным изучения культа огня
- Авеста в русских переводах (1861-1996). СПб.: Летний Сад, 1998. 480 с.
- Андреев М. С. Таджики долины Хуф. Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1953. Вып. 1. 251 с.
- Аристов Н. А. Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах по древним, преимущественно китайским, историческим известиям (Продолжение) // Русский антропологический журнал. 1900. Кн. 20, № 4. С. 62-197.
- Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983. 206 с.
- Бубнова М. А. Работы Памирского археологического отряда на Западном Памире в 1976 году // АРТ. Душанбе, 1982. С. 179-184.
- Бубнова М. А. Культовое сооружение Ка-фыркала // АРТ. Душанбе, 1990. Вып. 22. (1982 г.) С. 301-310.
- Бубнова М. А. Культовое сооружение Кафыркала I-IV. Разведки в 1983 г. (Шугнанскийр-он) // АРТ. Душанбе, 1991. Вып. 23. (1983 г.). С. 227-236.
- Бубнова М. А. От культа огня к храмам огня // Research in Ancient Iran and Avesta. Amers foort; Paris: Rudaki, Payvand and Ancient culture Society. 1997. Vol. 1. P. 165-196. (The Second International Congress in Indo-Iranian Civilisation. Amers foort. October, 1997). (на перс. яз.)
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейские языки и индоевропейцы. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1984. Т. 2. С. 440- 1328.
- Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. М.: Наука, 1982. 132 с.
- Жарникова С. К вопросу о возможности локализации священных гор Меру и Хара индоиранской (арийской) мифологии // МАИКЦА. 1986. № 11. С. 31-41.
- Зайцев В. П. Памирская страна - центр Туркестана. Историко-географический очерк (с картой). Новый Маргелан: Типогр. Ферганского обл. правл., 1903. 78 c.
- Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / Изд подгот О. М. Чунаковой. М.: Вост лит., 1997. 352 с.
- История таджикского народа. М.: Вост. лит., 1963. Т. 1: С древнейших времен до V в. н. э. 596 с.
- Клейн Л. С. Время кентавров. Степная прародина греков и Ариев. СПб.: Евразия, 2010. С. 496 с.
- Книга о праведном Виразе (Арда Вираз Немаг) и другие тексты / Введение, транслит. пехл. текстов, пер. и коммент. О. М. Чунаковой. М.: Вост. лит., 2001. 208 с.
- Куклина И. В. Этногеография Скифии по античным источникам. Л.: Наука, 1985. 208 с.
- Лашкариев А. З. Поминальные обряды очищения дома и возжигания священной лампады у исмаилитов Западного Памира // ЭО. 2008. № 1. С. 101-105.
- Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крышимира». М.: Наука, 1972. 269 с.
- Литвинский Б. А. Семантика древних верований и обрядов памирцев // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье (история и культура). М.: Наука, 1981. С. 90-121.
- Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса (Южный Таджикистан). М.: Вост. лит., 2000. Т. 1: Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. 503 с.
- Моногарова Л. Ф. Преобразование в быту и культуре припамирских народностей. М.: Наука, 1972. 174 с.
- Мухиддинов И. Обычаи и обряды памирских таджиков, связанные с жилищем // СЭ. 1982. № 2. С. 76-83.
- Немоевский А. История креста // Атеист. 1927. № 16. С. 67-80.
- Рагозина З. А. История Мидии, Вавилонского царства и возникновения Персидской державы. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1903. 522 с.
- Рапопорт Ю. А. Из истории религии Древнего Хорезма (оссуарии). М.: Наука, 1971. 128 с. Риттер К. Иран. СПб.: Имп. АН, 1874. Ч. 1. 656 с.
- Серебренников А. Очерк Памира. СПб.: Типогр. гл. упр. уделов, 1900. 97 с.
- Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969. 336 с.
- Стеблин-Каменский И. М. Прижизненные поминки - зороастрийский обряд в мусульманском обиходе // Эрмитажные чтения 1986-1994 памяти В. Г. Луконина (21.I. 1932 - 10.IX.1984). СПб: Изд-во ГЭ, 1995. С. 101-105.
- Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М.: Вост. лит., 1962. 324 с.
- Фрай Р. Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия. Душанбе: Сурушан, 2000. 291 с.
- Хлопин И. Н. Изображение креста в древнеземледельческих культурах Южной Туркмении // КСИА. 1962. Вып. 91. 128 с.
- Ходжаева Н. Локализация авестийских гор Хара Березаити, рек Вахви-Даити, Ранха и моря Ворукаша. Душанбе: Дониш, 2003. 135 с.
- Ходжаева Н. Памир в географических представлениях древних иранцев // Вопросы Памироведения. 2013. № 1. С. 65-97.
- Юсуфбекова З. Семья и быт шугнанцев (конец XIX - начало XX в.). Душанбе: «Шарки Озод», 2001. 182 с.
- Bartholomae Chr. Altiranisches Wörter- buch. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1904. 2000 S.
- Bashiri I. Firdowsi’s Shah-Name: 1000 years after. Dushanbe: Supreme Soviet of Tajikistan Publ., 1994. 314 p.
- Boyce M. A Persian stronghold of Zoroastrianism. Oxford: Clarendon Press, 1977. 284 p. (Ratanbai Katrak lectures. 1975)
- Bundahis, Bahman-Yasht [Pahlavi], and Shâyast [and: Appendix to the Bundahis: Selections of Zâdspram, brother of dastûr Pârs and Kirmân, A.D. 881. Oxford: University Press, 1880. 434 p.
- Part I. Chapters I-IX (Paraphrase of Bundahis, I-XVII)] / Transl. by E. W. West. P. 1-151. (SBE. Vol. 5). Cambridge History of Iran / Ed. by E. Yar- sharter. Cambridge: Univ. Press, 1986. Vol. 3: The Seleucid, Parthian, and Sassanid Periods. P. 1.
- Duchesne-Guillemin J. Fire in Iran and Greece // East and West. 1962. Vol. 13, № 2-3. P. 198-206.
- Geiger W. Civilization of the eastern Irānians in Ancient times with an introduction on the Avesta religion. P. 2. The old Iranian polity and the age of the Avesta / Transl. from the German by Dārāb Dastur Peshotan Sanjānā. London: Henry Frowde Amen Cornewr, 1886. 299 p.
- Gershevitch I. The Avestan hymn to Mithra. Cambridge: University Press, 1959. 357 p.
- Gnoli G. Zoroaster’s time and homeland. Naples: Instituto Universitario Orientale, 1980. 279 p.
- Mouchet J. La Vallee du Wakhan. Afghanistan. 1972. Vol. 25. № 1. P. 78-87.
- Pavry J. C. The Zoroastrian doctrine of a future life from death to individual judgment. New York: Columbia Univ. Press, 1929. 126 p.
- Pahlavi Rivōyat аcсomponying the Dāde-stān ī Dēnīg. P. I: Transliteration, Transcription and Glossary by A. V. Williams. Copenhagen: Munksgaard, 1990. 357 p.; P. II: Translation.
- Commentary and Pahlavi Text by A. V. Williams. Copenhagen: Munksgaard, 1990. 381 p.
- Schippmann K. Die iranischen feuerheiligtümer. Berlin: Gruyter, 1971. 555 S.
- Zend-Avesta. P. I: The Vendîdâd / Transl. by J. Darmesteter. Oxford: Univ. Press, 1880. 240 p. (SBE. Vol. IV); P. II: The Yasna, Visperad, Sîrôzahs, Yasts, Nyâyis / Transl. by J. Darmesteter. Oxford: University Press, 1882. 384 p. (SBE. Vol. 23).