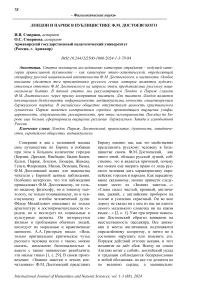Лондон и Париж в публицистике Ф.М. Достоевского
Автор: Смирнов И.В., Смирнова О.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1-3 (88), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию категории страдания - ведущей категории православной духовности - как категории этико-эстетической, определяющей специфику русской национальной идентичности Ф.М. Достоевского, в частности. Особое внимание уделяется тем произведениям русского гения, которые являются художественным ответом Ф.М. Достоевского на запросы эпохи, предъявляемые русскому национальному бытию. В данной статье мы рассматриваем Лондон и Париж глазами Ф.М. Достоевского, через призму восприятия писателя. Для писателя Лондон является воплощением бездуховноти, инфернальности, индивидуализма личности, олицетворением буржуазного порядка. В английском обществе отсутствует ценность христианского гуманизма. Париж является контрастным городом, производящим ощущение унифицировнности, сдержанности, размеренности, при этом легконравности. Поездка по Европе еще больше сформировала ощущение различия буржуазного Запада и самобытной России.
Лондон, париж, достоевский, православие, духовность, западничество, европейское общество, индивидуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170203220
IDR: 170203220 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-1-3-78-84
Текст научной статьи Лондон и Париж в публицистике Ф.М. Достоевского
Совершив в два с половиной месяца свое путешествие по Европе и побывав при этом в большом количестве городов (Берлин, Дрезден, Висбаден, Баден-Баден, Кельн, Париж, Лондон, Люцерн, Женева, Генуя, Флоренция, Милан, Венеция, Вена), Ф.М. Достоевский вывез для знакомства читателя с Европой ценные наблюдения. Особенно интересно, что эти наблюдения принадлежат Ф.М. Достоевскому, не только видному философу, но и тонкому психологу, не только понимающему, но и чувствующему изгибы человеческой души. Фёдор Михайлович описывает не только архитектуру и достопримечательности городов, но и исследует их социальные и культурные аспекты. Он интересуется жизнью и проблемами обычных людей, исследует их моральные и нравственные ценности. А.А. Григорьев писал: «Ведь только оригинальное критическое чутье русского человека могло с такою, можно сказать, нахальною беспощадностью и вместе с такою наивностью разоблачить эти милые типы» [1, с. 29]. В своем произведении «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевский представил
Европу именно так, как это свойственно представлять русскому человеку в большинстве своем. Ф.М. Достоевский, как никто иной, обладал русской душой, собственно, это и является причиной, почему мы можем ему вверить право от лица русского человека дать характеристику европейских городов и народов. Как парадигму выше сказанному, можно привести следующее место из «Зимних заметок…»: «Слева сидел чистый, кровный, англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке...» [2, с. 1]. Уже при первом знакомстве Достоевский обратил внимание на неестественность пассажира. Все движения и жесты англичанина подчиняются определённому алгоритму, и ничто не в состоянии нарушить или изменить его. Порядок действий отточен веками, и этот механизм не даёт сбоя. Всюду он «свою Англию возит с собой», английский уклад и традиции соблюдаются беспрекословно в любой обстановке, но все это делается не по велению сердца, а машинально:
«…днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне.» [2, с. 1]. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на обороты речи и, если у вас получится, почувствуйте интонации, которые использует автор в описании. Такие тонкие употребления как: «маленького словечка» или «мельчайшей» говорят о том, что широкая душа русского человека, в лице Ф.М. Достоевского, сразу почувствовала, «поняла» и сделала вывод о партикулярно-сти натуры. Всё имеет свои рамки и ограничение, а это так не характерно для русского человека. В конце выбранного места мы видим, что автор как бы выводит силлогизм из своего наблюдения: «как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне», читатель вправе усомниться и сказать: «Но ведь это не то, это совсем разные характеристики». Оно, возможно, и так, если не обращать внимания на главное – интонацию всего наблюдения Ф.М. Достоевского, именно здесь проявляется индивидуальный психологизм автора, его умение по первым признакам дать определение и, самое главное, передать его на имманентном уровне читателю. Фёдор Михайлович как тонкий психолог подмечает, казалось бы, несущественные мелочи, детали, на первый взгляд, незначительные, но именно это помогает понять истинный характер и культуру англичан. Это, словно детали пазла, по отдельности малозначащие, но в совокупности дают единую картину.
Для чего мы столь далеко удаляемся от главной темы, для того чтобы читатель мог уяснить, как человек с таким сознанием, душой и интуицией мог воспринять и охарактеризовать европейский уклад жизни, тем более что автор сам указывает на то, что в Европе он впервые: «Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок.» [2, с. 1]. Нетрудно заметить, что Ф.М. Достоевский не просто осмотрел, а вывел очень полезные заключения и наблюдения, к которым мы и переходим.
Пятая глава «Зимних записок о летних впечатлениях» называется «Ваал», мы не будем углубляться в пояснение названия, оставим это для собственного интереса читателя. Глава начинается словами: «Итак, я в Париже…» [2, с. 2]. Важно отметить, что название автором взято неспроста. Мы еще вернемся к нему, чтобы обратить внимание не просто на тонкую иронию, а на глубокий смысл названия. Но перед этим нам необходимо познакомится с размышлениями автора о Париже и Лондоне. Ф.М. Достоевский в своем произведении рядом поместил два крупнейших мегаполиса XIX в., постоянно проводя линию сравнения. Ф.М. Достоевского интересовал человеческий капитал и главная его составляющая – душа человека, это можно подтвердить следующим примером из «Зимних заметок»: «Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с умилением ежится» [2, с. 2]. Автор обращает внимание на жителей Парижа и Лондона, которые, несомненно, являются производной к материальным ценностям, архитектуре и прочему. Знакомясь с Парижем, Ф.М. Достоевский обращает внимание на особенность парижан, которые в своем стремлении к комфорту и удобствам забывают о том, что развитие осуществляется действием нравственных сил, а не вымышленными идеалами, через которые, непременно, можно зайти в тупик. Описывая «тишь и благодать» города, автор указывает читателю на то, что он, возможно, недосмотрел чего-то, но, уж точно, не ошибается и делает это в превосходной иронической форме: «Но, друзья мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру.» [2, с. 2]. Наблюдая за поведением жителей Парижа, Ф.М. Достоевский обращает внимание на чопорность и благополучность, с которой люди проводят свою жизнь, и, как человек тонко чувствующий изгибы человеческих душ, обращает внимание на мелочи в поведении, которые, как нельзя лучше, характеризуют ментальность общества, так как выполняются машинально, в связи с чем, входят в привычку. А эта самая привычка продуцируется на облик города и создает то ощущение, которое уловил автор с первого времени пребывания в городе. Нельзя сказать, что Париж не произвел на Ф.М. Достоевского положительного впечатления, напротив, автор говорит: «Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка.» [8, с. 2]. Но здесь мы чувствуем, что Ф.М. Достоевский очень переживает: во-первых, за существующие неравенство и хочет читателю показать, к чему может привести такое расслоение, при этом оставляя, как бы между прочим, выводы сделать самому читателю, а во-вторых, он указывает на «затишье» порядка, которое создает явное ощущение чего-то нехорошего, прикрытого, имеющего тяжелые последствия в будущем.
Характеризуя Париж, Ф.М. Достоевский дает ему чёткое субъективное определение: «Так и не скажу, что именно просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре.» [2, с. 2]. Читатель прекрасно понимает, что определение самое четкое, но вот чувствует, прочитав описание Парижа, что автор «Зимних заметок», искренне сострадает будущему города и его обитателям. Не верит Фёдор Михайлович в нравственность и добродетель, которая делит людей на классы, которая доступна только избранным. В этом на наш взгляд и заключается главная особенность Ф.М. Достоевского в описании не только Парижа, но и Лондона, к которому мы и переходим.
Впрочем, с Лондоном вышло несколько «проще», он оказался более доступен для Ф.М. Достоевского, так как автор не нашел в нем столько келейности, которую он обнаружил в Париже. Лондон, этот древний город, основанный в «доримские» времена и переживший расцвет, и упадок Римской Империи, произвел на автора «Зимних заметок» впечатление крайне динамичного мегаполиса: «Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, – какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами оттушевался он в моих воспоминаниях. Всё так громадно и резко в своей своеобразности.» [2, с. 2]. Динамичность эта выражается, конечно, не физически в описании автора, а в стремлении создать некую духовную коллаборацию из людей с индивидуальными устремлениями, желанием достичь поставленной ими цели во что бы то ни стало, при этом, не обращая внимание, что в погоне за результатом, город и его жители создают некий одеревенелый монолит при этом, как ни странно это может показаться, движущийся и вовлекающий в себя все новых желающих «большого» счастья. Эти соображения подтвердит следующее объемное размышление, которое мы выбираем из заметок Ф.М. Достоевского: «Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением.» [2, с. 1]. Постоянная суета создаёт иллюзию жизни, но суета эта бессмысленная, люди не чувствуют удовлетворения и счастья, они изо дня в день совершают одни и те же движения, выполняют одни и те же ритуалы. Здесь машины одержали верх. Человек всего лишь дополнение этого механизма, и каждый житель рад выполнять свою функцию, чувствуя свою причастность к мегаполису, свою значимость. Удивительно, здесь не город принадлежит людям, а люди городу. Это еще больше огорчает Достоевского. Фёдор Михайлович восхищается красотой природы, но он её не принимает, уж слишком она идеальна и неестественна. Она тоже попала под влияние урбанизации. Даже река и воздух не способны вдохнуть жизнь и непринужденность. Город овладел природой. Лондон диктует свой ритм и свои правила. Любой, кто попадает под его влияние, вынужден подчиниться: «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество.» [2, с. 1]. Ф.М. Достоевский очень точно подметил парадокс: люди приезжают в Лондон в поисках жизни и движения, а обретают пустоту и бессмысленность, в погоне за индивидуальностью превращаются в «стадо». Город питается их энергией, требуя всё новых и новых жертв. И для Достоевского страшно, что люди идут на это добровольно, они рады попасть в эти жернова ради материального благополучия и социального статуса. Этот нескончаемый круговорот вызывает одновременно чувство восхищения и страха: «Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось [2, с. 2]. Конечно, можно было бы к этой картине автора и не дополнять больше ничего, в ней и так всего сполна, но, хотелось бы обратить внимание, что, как и в случае с Парижем, Ф.М. Достоевский внутренне сопережива- ет городу и его жителям и негодует, но в большей степени, чем, там в Париже, находит причину этого явления: «Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух.» [2, с. 2]. Здесь мы видим порицание духа, который овладел лондонцами и теми, кто прельщается той динамикой города, о которой уже упоминалось выше. В бесконечной погоне за «золотым тельцом», люди теряют простые человеческие ценности. Они не понимают, что золото и деньги сами по себе, не могут сделать человека счастливым. Являясь заложниками ими же созданной цивилизации, они не могут выйти из этого порочного круга. Этот образ жизни становится привычкой.
Если проводить сравнение между описанием Парижа и Лондона, то мы увидим, что автор «Зимних заметок», побывав в Париже, обращает внимание на то, что его жители образовали эту келейность, и город этому тихо подчинился и застыл, и парижане этим счастливы. Они не хотят его беспокоить, они полагают, что, если все идет своим отлаженным чередом, то это сохранит их существование безмятежным, но надо не забывать о названии главы, с которой начинает знакомить читателя Ф.М. Достоевский…
Что же касается Лондона, Ф.М. Достоевскому не пришлось глубоко искать те тайны, которые он почувствовал в Париже, Лондон в своей динамике как бы выбросил перед ним на поверхность все те явления, которые автор «Зимних заметок», со свойственным ему талантом, сложил в пазл и представил на суд читателю. Но так как Ф.М. Достоевский не мог удовлетвориться ролью «ремесленника», только собирающего готовый материал, он непременно хотел получить те нравственные факты, которые не позволили бы истолковать его «пазлы» двояко, и вот этот результат исканий мы имеем честь привести: «Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу.» [2, с. 2]. Достоевского потрясает контраст нищиты и блеска. При этом Лондон не скрывает своих пороков, а, наоборот, подсвечивает искусственным освещением, он этим не гордится, но и прятать не намерен. Но больше всего писателя потрясает безразличие общества к происходящему. Здесь каждый настолько погружен в себя, что ему просто нет дела до того, что происходит вокруг. Насколько Лондон выразителен и блистателен, настолько он высокомерен и холоден. На его ярких улицах нет места состраданию: «Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, всё вместе. В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков.» [2, с. 2]. Все эти «картинки» представляют собой неподдельное лицо Лондона и англичан. Всё это имеет вылощенную форму, которая забирает все силы, не оставляя возможности заглянуть вовнутрь. Рациональность проявляется во всем: не только во внешнем облике города, но и в характере. Чопорность и снобизм доминируют над чувствами и состраданием: «Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая па и как будто по обязанности.» [2, с. 2]. Ничто не способно нарушить вековых традиций, вся жизнь англичанина подчинена строгим нормам и правилам. Даже в моменты радости и веселья они сохраняют свою задумчивость и серьёзность. У Фёдора Михайловича Достоевского, человека глубокой русской души, это вызывает непонимание и отторжение. Фальшь ему сразу бросается в глаза. Красота здесь имеет только внешнее обличие, скрывая пустоту. Достоевский не принимает потребитель- ское общество, которое в своём желании достичь успеха и богатства, способно на подлость и жестокость «…технический прогресс уничтожает человека, превращает народ в толпу, ищущую пьяных и порочных удовольствий…» [3, с. 23].
Здесь нужно отметить, что Ф.М. Достоевскому не было необходимости находиться в Лондоне восемь дней, для того чтобы сделать вывод, ему достаточно было бы посетить Гай-Маркет… Теперь хотелось вернуть читателя к названию пятой главы «Зимних заметок о летних впечатлениях» – Ваал. Хорошо подметил Чуйков П.Л. в своей научной статье: «Проблема "Россия и Запад" в историософской публицистике Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, редактора журнала "время"»: «…человеку нужно много душевных сил, чтобы не поддаться соблазну принять увиденное за высший идеал и не обоготворить Ваала...» [4, с. 1]. Но, к сожалению, не всем это удаётся, особенно людям, впервые попадающим сюда. Мы с Вами увидели, что больше всего потрясло Ф.М. Достоевского в Лондоне и Париже при всей фешенебельности последнего. И, если с Лондоном Ф.М. Достоевскому понятно стало практически сразу, то беда Парижа, как раз-таки и заключается в том, что он будет постепенно и монотонно разъедаться Ваалом изнутри, под этим «покрывалом» безмятежности, усыпляя бдительность каждого, раз побывавшего здесь. К нему как нельзя лучше, по мнению автора, подходит изречение: «Оставь надежду всяк сюда входящий». И в этом отношении Лондон гораздо честнее Парижа.
Таким образом, Фёдор Михайлович Достоевский, описывая Лондон и Париж, обратил внимание, на несоответствие формы содержанию. За внешним лоском, роскошью скрывается пустота и безразличие. Е.И. Кийко в своей работе писал: «В «Зимних заметках» Достоевский дал сатирические зарисовки общественных нравов Франции времени Наполеона III, воспроизвел страшные картины жизни пролетариев капиталистического Лондона, разоблачил лживость и лицемерие буржуазнодемократических «свобод» Европы, про- возглашенных в результате революций, последовавших за французской революцией XVIII в. Достоевский с сарказмом писал, что свободой в буржуазном обществе пользуется только тот, кто имеет миллион.» [5, с. 749]. Это откровение еще больше усилило веру Фёдора Михайловича в православие, так как ему свойственно тон- кое чувство русского христианского мироощущения. Писатель видит в западной культуре и обществе невозможность достижения истинного счастья. В своих ра- ботах он глубоко переживает кризис буржуазного общества и с осуждением смотрит на западные ценности. Он не верит в то, что человек, окруженный аморальностью, может найти духовное основание для своей жизни. Спасение, по мнению Ф.М. Достоевского, в бескорыстной любви к ближнему, в служении Богу. Только сле- дование этому евангельскому завету спо собно привести к всеобщему благополу чию.
Список литературы Лондон и Париж в публицистике Ф.М. Достоевского
- Григорьев А.А. Театральная критика. - Л., 1885. - С. 29. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://itexts.net/avtor-fedor-mihaylovich-dostoevskiy/116477-tom-4-proizvedeniya-1861-1866-fedor-dostoevskiy/read/page-59.html (дата обращения: 10.01.2024).
- Достоевский Ф. Зимние заметки о летних впечатлениях. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://skazki.rustih.ru/fedor-dostoevskij-zimnie-zametki-o-letnix-vpechatleniyax/(дата обращения 08.01.2024).
- Дергунова, Н. Г. Авторская концепция взаимоотношений Россия-Запад в "Зимних заметках о летних впечатлениях" Ф. Достоевского / Н.Г. Дергунова // Русско-зарубежные литературные связи / Кафедра русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. - Нижний Новгород: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина", 2014. - С. 36-42. EDN: TSQQTL
- Чуйков П.Л. Проблема "Россия и Запад" в историософской публицистике Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, редактора журнала "время" // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. - 2018. - №3 (30).
- Кийко Е.И. Комментарии: Ф.М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. - Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. - Т. 4. - С. 748-764. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rvb.ru/dostoevski/02comm/23.htm (дата обращения 13.01.2024).