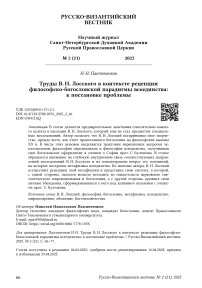Лосского в контексте рецепции философско-богословской парадигмы всеединства: к постановке проблемы
Автор: Павлюченков Н.Н. Труды В.Н.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье делаются предварительные замечания относительно важного аспекта в наследии В. Н. Лосского, который еще не стал предметом специальных исследований. Автор полагает, что В. Н. Лосский воспринимал свое творчество, прежде всего, как ответ православного богословия на философские вызовы ХХ в. В числе этих вызовов выделяются трактовки нерешенных вопросов экклесиологии, философия персонализма и философия всеединства, получившая свое богословское оформление в учении о Софии прот. С. Булгакова. В статье обращается внимание на глубокую внутреннюю связь соответствующих направлений исследований В. Н. Лосского и их концентрацию вокруг тех оснований, на которых построена метафизика всеединства. По мнению автора, В. Н. Лосский осуществил рецепцию этой метафизики и представил свою систему, в которой, с одной стороны, пытался всецело исходить из свидетельств церковного святоотеческого миропонимания и богословия, а с другой стороны, проявил свои личные убеждения, сформировавшиеся у него под влиянием полемики с учением прот. С. Булгакова.
В. Н. Лосский, философия, богословие, метафизика, всеединство, мировоззрение, обожение, Богочеловечество
Короткий адрес: https://sciup.org/140310261
IDR: 140310261 | УДК: 1(470)(091)+271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_66
Текст научной статьи Лосского в контексте рецепции философско-богословской парадигмы всеединства: к постановке проблемы
Выдающийся русский религиозный философ В. С. Соловьев оставил после себя не только богатое различными идеями творческое наследие, но и целое поколение последователей, которые испытали непосредственно на себе то, что прот. Г. Флоров-ский назвал великим и редким платоническим даром Соловьева «трогать мысль»1. Одним из главных его достижений, оказавшим существенное влияние на все последующее развитие отечественной философии и (отчасти) богословия, явилась воспринятая им, по преимуществу, у Шеллинга метафизика всеединства, соединенная с его собственной трактовкой христианского догмата «Богочеловечества». По его мысли, человечество в своем развитии призвано воспроизвести онтологическое устроение Божественного Триединства2 и тем самым явить новую реальность, ради которой осуществляется весь мировой «богочеловеческий» процесс. В системе В. Соловьева, при отсутствии онтологической дистанции между Богом и становящимся во времени миром3, эта формирующаяся новая реальность, фактически, оказывается Богом, «превзошедшим» свое Триединство и ставшим Многоединым или Всеединым.
Ключевым моментом, определяющим невозможность принятия такой метафизики с позиций христианского мировоззрения, является, конечно, утверждаемая в христианстве онтологическая «бездна», пролегающая «между» Творцом и тварью. И уже, по существу, первая основательная рецепция идеи всеединства В. Соловьева, осуществленная его младшим современником и другом Е. Н. Трубецким, была направлена, прежде всего, на утверждение не структурного (как у Соловьева), а онтологического различия между мирами. Миру Божественному, согласно Е. Трубецкому, тварь становится причастной благодаря Боговоплощению, а образ такого причастия — становление твари обителью или «храмом» Божества4. Е. Трубецкой пытался таким образом устранить из системы В. Соловьева, прежде всего, «пантеистические соблазны» и необходимость ее рецепции, по большому счету, усматривал в наличии в ней лишь некоторых, хотя иногда и очень важных, но частных положений. Его опыт, осуществленный в этом направлении в работах 1913–1918 гг., не нашел существенного критического отклика и творческого развития, как представляется, главным образом, по условиям того времени — Первой мировой войны, революционных потрясений и смены идейных установок новой политической власти в России. То же самое можно сказать и о двух других опытах подобного рода, представленных в ранних работах свящ. П. Флоренского («Столп и утверждение Истины», 1908–1914) и С. Н. Булгакова (прежде всего, «Свет Невечерний», 1917).
Наиболее свободное развитие религиозно-философской мысли, воспринявшей концепцию всеединства В. Соловьева, происходило в русской эмиграции, где, в частности, в этом отношении можно отметить труды С. Л. Франка и Л. П. Карсавина. Их разработки иногда вызывали критические отклики, например, со стороны Н. Бердяева, который «непреодолимую трудность» парадигмы всеединства находил, в частности, в неудовлетворительном решении проблемы зла5. На этом фоне совершенно особое значение имело позднее творчество С. Н. Булгакова, ставшего в эмиграции протоиереем, профессором кафедры догматического богословия и деканом (официально с 1940 г.) Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В этот период он предложил новые опыты творческого переосмысления концепций В. Соловьева и своим учением о Софии, Премудрости Божией, вызвал многолетнее полемическое напряжение, так или иначе повлиявшее на направление философско-богословских разработок таких авторов, как прот. Г. Флоровский и В. Н. Лосский.
В. Лосский выделяется, в данном случае, прежде всего, тем, что вступил с Булгаковым в открытую и достаточно жесткую полемику. До сих пор в определенных кругах он воспринимается в качестве основного виновника того, что долженствующий быть чисто философско-богословским анализ софиологии Булгакова вышел на уровень церковных «осуждений» и «преще-ний». По этому поводу можно сказать, что, в данном случае, сыграл свою определяющую роль как церковный статус автора предложенного учения о Софии, так и соответствующее оформление самого учения. Такие критики софиологии прот. С. Булгакова, как иеромонах (впоследствии архиепископ) Иоанн (Максимович), архиепископ
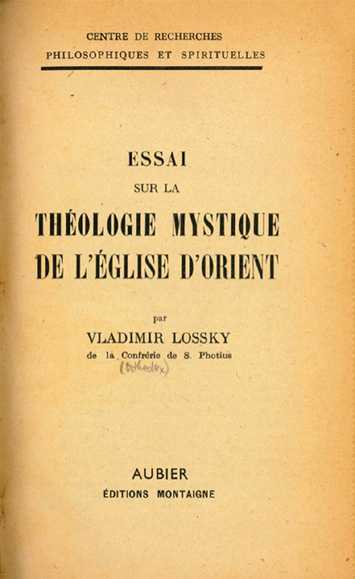
Первое французское издание «Очерков мистического богословия Восточной Церкви» В. Н. Лосского (1944)
Серафим (Соболев) и сам В. Н. Лосский, были озабочены, прежде всего, возможностью искажений в традиционном христианском вероучении, которые, хотя иногда и совершенно незаметно, но оказывают свое негативное влияние на духовную жизнь.
Но В. Лосский замечателен еще и своим подходом к тем вопросам, которые Булгаков поставил перед отечественной религиозно-философской мыслью и которые претендовали стать значимыми также и для отечественного богословия. Он не стал заниматься только подбором критических аргументов (как, например, архиепископ Серафим (Соболев)) и не ограничился проведением собственных изысканий в заданных Булгаковым направлениях (что начал делать прот. Г. Флоровский). В. Лосский, в конечном итоге, предложил свою метафизическую систему, которая вполне определенно выявляется, главным образом, в его «Очерках мистического богословия Восточной Церкви» и в незавершенном «Догматическом богословии». Все другие, достаточно многочисленные, работы В. Лосского в этом отношении не содержат ничего принципиально иного или нового и зачастую в них просто воспроизводится то, что было сказано в «Очерках». В основе этой работы лежит, как известно, курс лекций, прочитанных в первой половине 1940-х гг. и являющихся результатом многолетних исследований в области святоотеческого предания Православной Церкви6.
В литературе присутствует мнение, согласно которому «целью Лосского было не столько противостояние течению „русского религиозного возрождения“, сколько представление — в традиционной форме — православного богословия и духовности западной аудитории, преимущественно католической»7. В числе прочего, как утверждается, он пытался найти альтернативу набиравшему в его время на Западе популярность неотомизму8. Отчасти соглашаясь с подобными утверждениями, все же следует сказать, что сам В. Лосский, в целом, воспринимал свое творчество как ответ православного богословия на философские вызовы ХХ в., что можно видеть, прежде всего, в его разработках в области экклесиологии и учения о личности.
Все основные моменты расхождения западного христианства с православием, в том числе и особенности католической экклесиологии, В. Лосский сводил к мистическим (в смысле влияния на «мистическое богословие») последствиям filioqe и потому его собственный интерес к построению четко определенного догматического учения о Церкви, как представляется, был связан, прежде всего, не с оценкой католического взгляда на особую роль римского первосвященника, а с дискуссией о «границах» Церкви, инициированной в рамках экуменического движения и направляемой в определенное русло софиологией В. Соловьева и прот. С. Булгакова. Кроме того, как можно видеть из полемического текста В. Лосского «Спор о Софии» (1936), своим учением о двух аспектах Церкви он аргументировал критику восходящего к «Чтениям о Богочеловечестве» В. Соловьева представления Булгакова о Боговоплощении как необходимом этапе мирового процесса, завершающем «творение» мира и преодолевающем его «тварность»9.
Разработка богословского учения о личности, осуществленная В. Лосским в интеллектуальной атмосфере французского персонализма школы Э. Мунье, также непосредственно отвечает его убеждению в том, что целый ряд фундаментальных «заблуждений» Булгакова обусловлен смешением в его концепциях реальностей «личности» и «природы»10. С этих же позиций В. Лосский подвергал критике и обнаруженную им у Булгакова, если можно так сказать, одну из главных, «несущих конструкций» всего христианизированного варианта метафизики всеединства — представление о безусловном распространении дела Христа на все человечество, когда, «через Боговоплощение само собой, как бы механически совершается обожение всего человеческого рода»11.
Учение прот. С. Булгакова, как по существу, так и во многих частных аспектах, несло в себе все основные положения метафизики всеединства, и, задаваясь целью его критического осмысления, В. Лосский, с определенного момента, фактически, подчиняет этой цели все свои, сформированные прежде, интересы. Так, например, в истории Средних веков его начинают интересовать, прежде всего, феномены западноевропейской мистики XIV в., современной той духовной практике, о которой на Востоке христианского мира свидетельствовал свт. Григорий Палама. А его повышенное внимание к догматическим разногласиям Востока и Запада концентрируется на «мистическом богословии»12 как средстве концептуализации святоотеческого опыта единения человека с Богом13. В. Лосский, фактически, пытался переосмыслить не только целый ряд доктринальных положений стоящей за софиологией Булгакова метафизики всеединства, но очень близко подходил к глубокому ядру той мистики, которая легла в основу парадигмы всеединства и с которой, в конечном итоге, связаны все представления о мировом процессе, ведущем к становлению человека «Богом». И эталоном в этом отношении для него стал «паламизм», который уже успели (еще до 1917 г.) положить в основание своего нового богословского творчества свящ. П. Флоренский и прот. С. Булгаков.
В целом, нельзя не признать, что, как экклесиология, так и «богословский персонализм» В. Лосского были не только органично связаны с его критическим анализом основных идей метафизики всеединства, но, в конечном итоге, задачей такого анализа, так или иначе, были обусловлены. Но, к сожалению, этот аспект его наследия пока не стал объектом специального внимания исследователей и критиков.
Концепции В. Лосского о Церкви и личности были восприняты в отечественном богословии конца ХХ — начала XXI вв.14 и даже вошли в учебники по догматике15. Из критиков можно отметить уже прот. Г. Флоровского, который, в частности, полагал выделение В. Лосским двух аспектов Церкви16 «искусственным» и могущим привести «к серьезным недоразумениям»17. Указывая на утверждение В. Лосского о том, что «человек именно как „личность“ является существом, содержащим в себе целое», Флоровский обнаружил также «подспудно» проводимую у Лосского мысль, «что только в Духе Святом — не во Христе — человеческая личность в полной мере обретает (или возвращает себе) свое онтологическое основание»18.
Определив «индивид» как следствие грехопадения и результат «смешения» личности с природой19, В. Лосский, фактически, положил начало развитию богословской мысли, утверждающей примат личности (ипостаси) над природой (усией) как в твар-ном (человеческом), так и в Божественном естестве20. И хотя он, по мнению даже одного из самых решительных противников «персонализма в богословии», в своей Триадологии не вышел «за пределы того, что сказано у св. Отцов»21, а по оценке другого автора, явился самым «догматически корректным» из богословов-персоналистов ХХ столетия22, богословское учение о личности явилось главным объектом критики его концепций на рубеже ХХ–XXI вв.23
Использование В. Лосским «паламизма», как, впрочем, и все «мистическое богословие» признавал излишним в православии Н. К. Гаврюшин, который, в данном случае, выражал вполне определенную и достаточно давно сформировавшуюся в отечественном богословии тенденцию неприятия всякой метафизики. Но это уже совершенно особая точка зрения, с которой разработки В. Соловьева и его последователей в отечественном богословии пытаются просто игнорировать24.
Оставляя в стороне многие частные положения и идейные установки, можно сказать, что основой метафизики всеединства является представление о мировом процессе, преобразующем бытие Абсолюта и возводящем его на качественно новый уровень. В «Философии Откровения» у Шеллинга посредством этого процесса, при участии человека, Абсолют обретает свое личностное Триединство, а в доктрине В. Соловьева к этому Триединству органично присоединяется достигшее своей «божественности» и богоподобной организации человечество. Фактически, здесь выделяются те же центральные вопросы, к которым сводится христианская догматика (учение о Боге — Св. Троице и об отношениях человека с Богом), но в рамках религиознофилософской парадигмы всеединства предлагается не только свое решение этих вопросов, но и их особая постановка . Триадология (явно или неявно) принимает характер того, что можно назвать триадогенезисом, а человек воспринимается отличным от Бога не на глубоком качественном, а, если можно так сказать, только «количественном» уровне. Это связано с принципиальным отрицанием возможности творения мира из абсолютного «ничто», что явно обозначено как у В. Соловьева, так и у его идейных последователей, например, у С. Л. Франка25 и позднего прот. С. Бул-гакова26. Человек при этом рассматривается как становящийся, постепенно достигающий нового уровня полноты своей «божественности».
В рамках такой метафизики сотериология должна исключать (и, фактически, исключает) традиционную христианскую трактовку первого («доисторического») грехопадения и трансформируется в учение о преодолении целенаправленно допущенного «отпадения» от первоначального всеединства. Соответственно, центральное для христианской сотериологии событие Боговоплощения обретает значение, принципиально не выходящее за рамки мирового богочеловеческого процесса; оно служит ускорению этого процесса, но по существу его не определяет. Соответственно, хотя и важное, но, по существу, «служебное» по отношению к мировому процессу получает все, связанное с Боговоплощением, «домостроительство» спасения, включая основание «исторической» христианской Церкви. И, как можно видеть, сама парадигма всеединства требует, чтобы эти основные положения рассматриваемой метафизической системы воспринимались как необходимая (на данном, наиболее высоком уровне развития человеческого разума) коррекция традиционной трактовки христианского миропонимания. Относительно традиционного учения о Боге, мире и человеке вводится иное понимание «творения» и «тварности», а также иначе расставляются приоритеты в онтологии, когда первичной и все определяющей (всеобъемлющей) реальностью оказывается мировой (космический) процесс, в который, так или иначе, вовлечен Сам Бог.
В принципе, подобная метафизика может быть не связана с софиологией и представлять собой, например, какой-либо вариант из ставшей популярной в первой половине ХХ в. философии «космизма». И, как показала софиологическая полемика 1920-х — 1930-х гг., учение о Софии лишь вскрывает проблемные для христианского миропонимания аспекты метафизики всеединства, а не создает их. Иначе говоря, дело не в софиологии как таковой, не в специфической трактовке реальности Премудрости Божией, а в самой парадигме всеединства, органично (но не необходимым образом) связанной с этой трактовкой в трудах В. Соловьева и прот. С. Булгакова. Как представляется, это обстоятельство вполне определенно учитывал уже прот. Г. Флоровский, который только небольшую часть своих исследований посвятил непосредственно софиологии. Не обращая внимания на сам термин «всеединство», он, фактически, находил у св. отцов положения, не вместимые в обозначаемую этим термином метафизику. В. Лосский использовал практически все основные результаты исследований Флоровского, осуществленных в этом направлении и нашедших свое отражение в таких работах, как «Тварь и тварность» (1928)27, «Восточные отцы IV в.» (1931)28 и др.29
В главе «Бог Троица» своих «Очерков» В. Лосский, прежде всего, счел необходимым отметить, что «в Боге нет никакого внутреннего процесса, никакой „диалектики“ Трех Лиц, никакого становления, никакой „трагедии в Абсолюте“, для преодоления или разрешения которой неизбежно потребовалось бы троическое развитие Божественного Существа»30. И далее, после такого, категоричного выступления против доктрины «триадогенезиса», он практически полностью повторил наблюдения и выводы Флоровского относительно основных моментов догматического творчества «Великих Каппадокийцев»31. Точно так же высоко он оценил и отмеченное Флоровским отождествление свт. Григорием Богословом понятий «ипостась» и «лицо». Но при этом, вводя новое отождествление — «лица» (и, следовательно, «ипостаси») с «личностью» — «в современном понимании этого слова»32, В. Лосский сопоставил «личности» человеческие и «Личности» Божественные: «человеческие личности или ипостаси разъединены и не существуют одна в другой», тогда как «в Св. Троице наоборот, <…> Ипостаси находятся Одна в Другой». И добавил: «Дело личностей человеческих различно, дело же Лиц Божественных не различно, ибо „Три“, имея одну природу, имеют и одну волю, одну силу, одно действие»33.
По мысли В. Лосского, такое различие в устроении человеческих и Божественных личностей есть следствие грехопадения, после которого человеческие лично сти превратились в «индивиды». Соответственно, после устранения последствий

Пятидесятница. Фреска монастыря Дионисиат (Афон), XVI в.
грехопадения, это различие должно быть преодолено, что, в свою очередь, связано с совершающимися совместно и в непосредственной связи друг с другом делом Христа и делом Св. Духа. Христос приводит в онтологическое единство и обожи-вает раздробленную грехом человеческую природу, а Дух Святой сообщает обожение каждой, вошедшей в это единство природы, человеческой личности. При этом человеческие личности не только сохраняются как таковые, но и утверждаются во всей своей уникальности и неповторимости. Так формируется многоединство человечества, воспроизводящее по своему онтологическому устроению Триединство Божества.
Весь раздел «Очерков», посвященный домостроительству Св. Духа, содержит предлагаемые В. Лосским богословские основания этого положения. Именно здесь, как представляется, синтезируются все его разработки в области богословского персонализма и эк-клесиологии и именно из представленного здесь материала наиболее хорошо можно видеть, как непосредственно эти разработки связаны с рецепцией метафизики всеединства. Для В. Лосского оказывается важным, прежде всего, подчеркнуть, что речь не идет о заранее заданном мировом процессе как движущей силе формирования человеческого многоединства. «В мир, — пишет В. Лосский, — входит некая новая реальность, некое тело , более совершенное, чем мир, — Церковь , основанная на двойственном Божественном домостроительстве: на деле Христа и на деле Святого Духа»34.
По мысли В. Лосского, это — следствие особых промыслительных действий, вызванных первым грехопадением. Христос замещает Собою первого Адама — «воз-главителя» вселенной, «всецелой природы», который должен был, по изначальному заданию, соединить с Богом весь тварный космос35. В Лосский находит эту концепцию у «более метафизичного, чем другие святые отцы»36 — прп. Максима Исповедника — и тем самым раскрывает метафизику, построенную на совершенно иных основаниях, чем те, что предлагаются парадигмой всеединства. Здесь Бог, ставший Человеком, не «входит» в мировой Богочеловеческий процесс, а, если можно так сказать, инициирует его, полагая начало тому, что не смог осуществить первый Адам. И сама сотериология, прилагающая ко Христу термины «Второй» или «Новый» Адам, принципиально не стыкуется с такой концепцией мирового развития, в которой на заре человеческой истории обретается не «возглавитель» человечества, а существо, в котором только начинает формироваться полноценное личностное самосознание. Именно как «Новый» Адам, Христос «становится Ипостасью» Церкви — Своего «Тела, собранного от конец земли »37. Облекаясь во Христа, мы достигаем единства «нового человека». «Эта природа едина и нераздельна, это — единый человек »38. И при этом, «будучи единой природой во Христе, Церковь, — это новое Тело человечества, — содержит в себе множество человеческих ипостасей»39.
В этом контексте и выделяется различие в действиях двух «посланных в мир» Ипостасей Св. Троицы: «Дело Христа относится к человеческой природе, которую Он возглавляет в Своей Ипостаси. Дело же Святого Духа относится к личностям, к каждой из которых Он обращается». «Дело Христа — единит, дело же Духа — „раз-нообразит“», и эти действия «друг от друга неразделимы»40. Такая, формирующаяся в мистическом Теле Христовом, новая онтологическая реальность соединяется с Богом в обожении, которое, с этой точки зрения, должно также иметь два аспекта, как относящееся не только к вновь объединяемой в Богочеловеке человеческой природе, но и к каждой человеческой личности. Именно это положение в системе В. Лосского призвано устранить возможность представления о «механическом» распространении дела Христа на все человечество и, шире, — на всю тварь.
Реальное обожение достижимо только во всецелом человеке, представляющем собой, подобно Богу Св. Троице, антиномичное тождество и различие природы и личности41. И здесь, как представляется, по преимуществу, проявляется та новизна, которую В. Лосский внес в отечественное богословие и которая, будучи, по существу, реакцией на вызов метафизики всеединства, еще не получила своего критического осмысления. «Богословие Восточной Церкви, — пишет он, — всегда различает Лицо Святого Духа — Подателя благодати — и нетварную благодать, которую Он нам сообщает. Благодать нетварна, Божественна по своей природе. Это — энергия, или исхождение единой природы, Божество (теозис) — в том аспекте, в каком Оно неизреченно отличается от сущности и сообщает Себя тварным существам, тем самым обоживая их»42. Нетварная благодать — общая для всех Лиц Св. Троицы, и в этом аспекте ее усвоения человеком43 различать обожение, относящееся к природе и к личностям, во всяком случае, затруднительно. И В. Лосский, раскрывая это различие, отмечает, что Св. Дух, обращаясь особо к каждой человеческой личности, таинственно пред ней «самоустраняется» как Лицо. Он «таинственно отождествляется с человеческими личностями, оставаясь при этом несообщимым…»44 Сообщается при этом каждой личности «сама Божественная жизнь»45, «полнота», «бесконечное, внезапно раскрывающееся внутри каждой личности богатство»46.
Ссылаясь на замечание на прп. Иоанна Дамаскина (Точное изложение православной веры. Книга 1, 13): «Сын есть образ Отца, а образ Сына — Дух», В. Лосский пишет: «Из этого следует, что Третья Ипостась Пресвятой Троицы — единственная, не имеющая Своего образа в другом Лице»47, — и заключает: в Царстве Божием Святой Дух — «это незнаемое Божественное Лицо, не имеющее Своего образа в другой Ипостаси, явит Себя в обоженных человеческих личностях, ибо образом Его будет весь сонм святых»48.
Представляется, что, по существу, это — новая концепция всеединства, утверждающая и, вместе с тем, — на конечном этапе мировой истории, — устраняющая онтологическую дистанцию между тварью и Творцом. Триединство Св. Троицы в такой концепции не превращается в «Божественное Всеединство», но некоторым образом к нему приближается посредством указания на последовательность выявления «Образа» Отца — в Сыне, Сына — в Св. Духе, а Св. Духа — в твари (вернее, в человеке, «возглавляющем» всю тварь). Не явно, как бы «по умолчанию», В. Лосский находит определенный проблеск истины в известных утверждениях о несформиро-ванности или неявленности Лица Св. Духа в настоящую эпоху, которые можно найти, соответственно, у Шеллинга49 и в «Столпе и утверждении Истины» Флоренского50. Отмечая «сокровенность» церковного предания о Св. Духе51, В. Лосский находит этому объяснение в том, что можно назвать кенозисом Третьей Ипостаси, при котором Дух Святой не являет Себя в мире как Личность не только в нынешнем, но и в будущем веке. Получается, что даже в «конце времен» как Личность Он будет сокровен в личностях многоединого человечества. Нельзя не заметить, что это положение свидетельствами из церковного святоотеческого предания у В. Лосского никак не обосновано.
Дает В. Лосский и свою интерпретацию «мирового процесса», придавая ему значение постепенного, развернутого во времени, вхождения человечества в новую реальность Церкви как мистического Тела Христа. Главное его отличие от аналогичного процесса в метафизике всеединства заключается в том, что он основан на той онтологической новизне, которую в мир вносит Боговоплощение. И в целом, можно сказать, что при всем сходстве ряда положений с метафизикой всеединства, концепция В. Лосского остается центрированной на Христе как Богочеловеке, в Котором и через Которого только и открывается возможность для созданного из «ничто» мира онтологически соединиться с Богом.