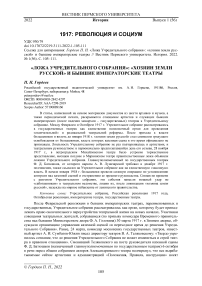"Ложа Учредительного Собрания": "хозяин земли русской" и бывшие императорские театры
Автор: Гордеев П.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: 1917: революция и социум
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье, написанной на основе материалов документов из шести архивов и музеев, а также периодической печати, раскрывается отношение артистов и служащих бывших императорских (после падения монархии - государственных) театров к Учредительному собранию. Между Февралем и Октябрем 1917 г. Учредительное собрание рассматривалось в государственных театрах как единственно полномочный орган для проведения «окончательной» и радикальной театральной реформы. После прихода к власти большевиков и вплоть до января 1918 г. «хозяин земли русской» стал символом грядущего освобождения от большевиков, власть которых казенная сцена в это время официально не признавала. Лояльность Учредительному собранию не раз подчеркивалась и артистами, и театральным руководством: в первоначально предполагавшийся день его созыва, 28 ноября 1917 г., в петроградском Михайловском театре было устроено торжественное представление, месяцем позднее в Мариинском театре правительственные ложи объявили ложами Учредительного собрания. Главноуполномоченный по государственным театрам Ф. Д. Батюшков, от которого нарком А. В. Луначарский требовал в декабре 1917 г. подчинения, также ссылался на Учредительное собрание как на единственную «законную» власть. В начале января 1918 г. большевики провели силовую операцию по установлению контроля над казенной сценой и отстранению ее прежнего руководства. Совпав по времени с разгоном Учредительного собрания, эти события нанесли мощный удар по «саботажникам» в театральном ведомстве, лишив их, после ликвидации «хозяина земли русской», надежды на мирное избавление от ленинского правительства.
Учредительное собрание, российская революция 1917 года, октябрьская революция, императорские театры, государственные театры
Короткий адрес: https://sciup.org/147245295
IDR: 147245295 | УДК: 930:79 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-105-111
Текст научной статьи "Ложа Учредительного Собрания": "хозяин земли русской" и бывшие императорские театры
«лишь временный характер», а постоянная «конституция государственных театров» может быть принята только после созыва Учредительного собрания [ Гордеев , 2019, с. 248, 372, 457]. С этим были в общем согласны и артисты: протестуя против действий Ф. А. Головина и самого Батюшкова, покушавшихся, по их мнению, на театральную «автономию», общее собрание артистов Большого театра вынесло 29 апреля резолюцию, в которой подчеркивалось, что «право решения вопроса о будущем бытии Государственных театров принадлежит Учредительному Собранию» (РГАЛИ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1026. Л. 3 об.).
После прихода к власти большевиков восприятие Учредительного собрания на казенной сцене, отказывавшейся признавать правительство Ленина, изменилось. Из долженствовавшего собраться в далеком будущем «хозяина земли русской» Учредительное собрание превратилось в боевой лозунг, оправдывавший неподчинение Совету народных комиссаров, и в политический символ, на котором концентрировались надежды антибольшевистских сил, в том числе и в театральном ведомстве. В период между Октябрьской революцией и выборами в Учредительное собрание основной задачей для сторонников последнего стала агитация за участие в выборах, во что казенная сцена также внесла свою лепту. 5 ноября артисты петроградских государственных театров во главе с Ф. Д. Батюшковым объявили трехдневную забастовку в знак протеста против кровавых событий в Москве, подчеркнув, что они признают «единственной правомочной властью, действующей в настоящее время в Петрограде, власть законно-выбранного городского головы», и предложив ему «приобщить наши силы к совместной работе по спасению города и населения от окончательной гибели, использовав наше коллективное участие по усмотрению Городской Думы и Комитета Спасения Родины и революции» (РГИА. Ф. 497. Оп. 6. Д. 5129. Л. 7). Эта часть резолюция, предложенная артистом Г. Г. Ге, заставила прессу гадать, «каким образом городское управление может использовать артистов», которые «не могут служить ничему и никому, кроме искусства» (Как город…, 1917, с. 4).
Скоро был получен ответ: городской голова Г. И. Шрейдер обратился к артистам с просьбой агитировать зрителей принять участие в голосовании 12–14 ноября: «Обращайтесь к населению с подмостков театров и кинематографов с призывом явиться на выборы и выполнить свой гражданский долг» (Призыв городского головы…, 1917, с. 5). Государственные театры по мере сил откликнулись на призыв Шрейдера. В частности, во время отмечания в Мариинском театре годовщины со дня смерти дирижера Э. Ф. Направника слово было предоставлено В. Д. Набокову, который «обратился к публике с убедительным призывом не запятнать нынешнее позорное безвременье еще новым позором – абсентеизмом на выборах в Учредительное Собрание» ( Курдюмов , 1917, с. 5). Одновременно артисты московского Малого театра, собравшиеся после его разгрома в октябрьские дни на общее собрание 7 ноября, подчеркнули в резолюции, что лишь за Учредительным собранием они признают право утвердить еще не выработанный «статут» театра, а до тех пор намерены действовать «на началах полного самоуправления» (РГАЛИ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 114. Л. 115).
Эти настроения не изменились и после выборов. Выступая 20 ноября на общем собрании служащих канцелярий московских государственных театров и комментируя выдвинутое в декларации Объединенного комитета служащих государственных и общественных учреждений г. Москвы требование «безотлагательного созыва» Учредительного собрания, писец (и делегат театральных служащих в Объединенном комитете) В. А. Быковский говорил: «Конечно, господа, все мы этого жаждем, все мы наполнены одной мыслью: дай Боже, чтобы поскорее было созвано Учредительное Собрание, мы все ждем этого собрания и в глубине души верим во что-то хорошее, светлое, с Учр[едительным] Собр[анием] связаны грезы о спокойной работе, о спокойной жизни. Конечно, все мы всецело присоединимся к этим требованиям Декларации» (РГАЛИ. Ф. 648. Оп. 3. Д. 58. Л. 8 об.). Наконец, с Учредительным собранием связывали и надежды на нормализацию финансового положения театров, которое уже к концу ноября вследствие конфликта с большевиками характеризовалось «сильными материальными затруднениями» (Ш. Финансовый кризис…, 1917, с. 4). Бухгалтер Канцелярии уполномоченного по государственному московскому Малому театру А. К. Сайков писал 28 ноября из Петрограда А. И. Сумбатову-Южину (в то время – уполномоченному по Малому театру) о своем разговоре с временно исполнявшим обязанности комиссара над бывшим Министерством двора Н. Э. Рюдманом. Сайков хотел добиться ассигнований для московских театров, но полученные сведения были не особенно утешительными: «На предложенный мною г. Рюдман вопрос, имеется ли вообще достаточная сумма в Государственном банке или еще где либо хотя [бы] до 1 Января 1918 года – ответил, что нет, имеется у Министерства два миллиона а необходимо четыре; недостающая сумма должна быть отпущена Министерству Государственным Казначейством, а это может быть только в том случае, если соберется Учредительное Собрание и будет Законная Власть в России» (РГАЛИ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 1810. Л. 2).
В театрах готовились достойно встретить открытие Учредительного собрания, первоначально запланированное на 28 ноября, которое в театральной печати уже успели сравнить с «восходом солнца» (Когда восходит солнце, 1917, с. 6). За день до этого, 27 числа, писательница С. И. Смирнова-Сазонова, мать актрисы Александринского театра Л. Н. Шуваловой, зафиксировала в дневнике: «В Михайлов[ском] театре стряпают назавтра какое-то даровое народн[ое] представление по случаю открытия Учредит[ельного] Собрания. Разогнан[ная] го-род[ская] дума предлагает почтить эт[от] день, Тата [актриса Н. В. Ростова – П. Г. ] и Ге собирают актеров, хлопочут, но собрать еще никого не могут. <...> дума приглашает завтра вывешивать красн[ые] и белые флаги, украшать подъезды коврами, иллюминировать дома, а ве-черн[ие] газеты сообщают, что Учредит[ельное] Собрание отложено до 30-го, оно завтра не откроется». Тогда же старшая кассирша государственных театров Е. А. Солини, жившая в доме Смирновой-Сазоновой, «приходила к нам звонить по телефону в театр сказать, чт[обы] готовили скорее комплекты билетов для завтрашн[его] спектакля. Никто ничего не знает, полицеймейстер не извещен, капельдинеры тоже. Она боится, что публика приедет, а билетов не будет, показать ей места некому. Поздно спохватились. Точно Учред[ительное] Собрание свалилось на голову неожиданно, не успели ему встречи приготовить» (РО ИРЛИ. Ф. 285. № 67. Л. 62–64).
Автор дневника была не совсем справедлива: 28 ноября в Петрограде была, пусть и наспех, подготовлена торжественная программа. В Мариинском театре она носила в большей степени характер импровизации: шел «Князь Игорь», перед третьим действием «публика требовала исполнения революционного гимна. Оркестр исполнил Марсельезу, которую все слушали стоя. По окончании Марсельезы раздались возгласы: “Да здравствует Учредительное Собрание!”». Затем по указанию управляющего оперной труппой этого театра А. И. Зилоти был поднят занавес, и «один из публики, находясь на ложе, произнес горячую речь, посвященную первому дню Верховного Хозяина Русской Земли. Речь оратора была покрыта шумными аплодисментами и возгласами: “Да здравствует Учредительное Собрание” и “Вся власть Учредительному Собранию”»; в то же время Художественно-репертуарный комитет оперной труппы постановил послать всероссийскому парламенту «приветственную телеграмму». Более тщательно подготовились драматические актеры; центром торжеств стал Михайловский театр, который использовался как вторая сцена артистами Александринского театра. В прессе было дано подробное описание: «В Михайловском театре, по просьбе городского общественного управления, в день открытия Учредительного Собрания, были устроены две серии народных концертов. Билеты выдавались бесплатно. Присутствовали учащиеся городских школ, раненые солдаты, рабочие и др. Театр был переполнен. Национальный праздник открылся апофеозом. Артисты Александринского театра, в костюмах всех населяющих Россию народностей, устроили на сцене шествие. Задняя часть сцены изображала Кремль. После шествия выступил с речью артист Александринского театра Г. Г. Ге – о значении Учредительного Собрания. Речь эта была покрыта торжественными музыкальными номерами, которые исполнял Государственный оркестр под управлением С. Кусевицкого» (В театрах, 1917, с. 3). С. И. Смирнова-Сазонова, впрочем, оценила представление (со слов дочери, Л. Н. Шуваловой) скептически: «В Михай-лов[ском] театре даров[ое] представление для приглашенных, что-то в роде балагана Лейферта, даже два дневн[ых] представления, одно за другим. Люба поехала было, но когда ей предложили выйти на выход вместе с гимназистками, она отказалась. Все это жалко, мизерно, недостойно госуд[арственных] театров. Нарядят гимназистов в рус[ские] костюмы, прибавят двух-трех актрис и выпустят приветствовать Учред[ительное] Собрание» (РО ИРЛИ. Ф. 285. № 67. Л. 65).
После 28 ноября судьба Учредительного собрания представлялась все более неопределенной, при этом оно оставалось единственной альтернативой большевистской власти, будучи в этом отношении незаменимой для театрального руководства и поддерживавших его артистов. Когда в декабре 1917 г. разгорелся публичный конфликт Ф. Д. Батюшкова с А. В. Луначарским, требовавшим сначала «признания» его власти как народного комиссара, а затем увольнения Батюшкова, последний в неопубликованном послании Луначарскому (написанном около 12–14 декабря) писал: «Откровенность – за откровенность: Вы действуете последовательно, отстраняя меня от должности, но и я последователен, не признавая в Вас представителя законной власти. Таковой будет лишь власть, которую установит учредительное собрание, а до того – эмблемой преемственности власти являются заключенные Вашей партией в Петропавловской крепости – честные, идейные служители народа: Карташев, Бернацкий, Терещенко и проч. и проч., которым даже не было предъявлено обвинения» (РО ИРЛИ. № 15632. Л. 5). В дальнейшем Батюшков продолжал в переписке с Луначарским указывать на то, что народный комиссар занимается «узурпацией прав Учредительного собрания». В конце декабря, уступая давлению и соглашаясь «сдать должность» назначенному Луначарским лицу, Батюшков уточнял: «Сложить полномочия я могу только перед властью, узаконенной Учредительным собранием» (Первые мероприятия..., 1959, с. 58, 60).
В артистических кругах отношение к Учредительному собранию в декабре 1917 г. начало постепенно расслаиваться. В труппе Александринского театра, достаточно сплоченной в противостоянии большевикам, «хозяин земли русской» по-прежнему оставался непререкаемым авторитетом. Выступая 16 декабря 1917 г. на общем собрании актеров, управляющий труппой Александринского театра Е. П. Карпов заметил: «Мы должны подчиниться законной власти. Если Учред[ительное] Собр[ание] утвердит Луначарского, мы подчинимся ему» (ГЦТМ. Ф. 486. № 1899. Л. 3 об.). В Мариинском театре сформировалась значительная группа артистов, стоявших за соглашение с большевиками; выражая ее мнение, В. Э. Мейерхольд на собрании оперной труппы 11 декабря заявил, что «судьба театров не будет решаться в Учр[едительном] Собрании» (СПбГМТиМИ. Ф. 68. ГИК 23238/4. Л. 2 об.). И тем не менее именно в этом театре (вероятно, благодаря отчетливо антибольшевистской, «непримиримой позиции» ( Бертенсон , 1957, с. 240) управляющего оперной труппой, знаменитого пианиста и дирижера А. И. Зилоти) Учредительному собранию оказывалось накануне его созыва особое внимание.
В конце декабря к одной из бывших царских лож, «принадлежавшей в последнее время Временному правительству» (теперь, соответственно, контроля над ней добивалась рабочекрестьянская власть) артистами Мариинского театра был прибит плакат «Ложа Учредительного Собрания» ( Двинский , 1917, с. 8), показывавший, какой орган труппа считает законным преемником уже не существовавшего кабинета А. Ф. Керенского. А. И. Зилоти отказался передать ключи от лож большевикам, что в тех условиях смотрелось со стороны новых правителей «провокационно» [ Barber , 2002, p. 273]. 29 декабря возмущенный А. В. Луначарский писал Ф. Э. Дзержинскому: «Как выяснилось, управляющий Мариинским театром А. Зилотти [орфография источника сохранена. – П. Г. ] ведет против нас все время самую злостную агитацию, результатом которой явилось неподчинение до сих пор Рабочей и Крестьянской власти Государственных театров. Вчера мне стало известно, что А. Зилотти передал ключи от правительственных лож представителям правых фракций Учредительного Собрания и что по соглашению с ними он имеет намерение сделать 5-го января Мариинский театр ареной демонстрации против Советской власти». Народный комиссар по просвещению, поручив своему помощнику Ю. Н. Флаксерману «потребовать от А. Зилотти ключи от правительственных лож и подписки о недопущении каких бы то ни было спектаклей под политическими лозунгами без моего специального разрешения. В случае отказа выполнить это мое распоряжение А. Зилотти подлежит немедленному аресту, на что я уполномочен Советом Комиссаров», просил председателя ВЧК «дать тов. Флаксерману для выполнения им означенного поручения наряд красногвардейцев человек в 20 под командой сметливого и расторопного человека» (ГАРФ. Ф. Р-336. Оп. 1. Д. 160. Л. 4–4 об.).
30 декабря Ю. Н. Флаксерман явился на квартиру А. И. Зилоти (жившего на набережной Крюкова канала, 14, в квартире 19) во главе отряда красногвардейцев и потребовал ключи от «бывшей царской ложи»; получив ответ «Вы можете взять их только силой», он арестовал музыканта и препроводил его на Гороховую, 2, в резиденцию ВЧК (Флаксерман, 1987, с. 98). В следственном деле Зилоти сохранился протокол допроса, произведенного еще на Крюковом канале. Большевиков интересовали не только ключи от ложи, о которых Зилоти говорил уклончиво («Ключей у меня не было, были в театре у курьеров, что могут удостоверить задержавшие меня. Это сплошное недоразумение, что ключи находятся у меня. Если бы у меня были ключи, я, конечно, отдал бы, так как театр не моя личная собственность. <...> Вчера обратился ко мне полицеймейстер театра Столица с запросом, можно ли в правительственную ложу впустить членов Учр[едительного] Собр[ания], которые приходили справиться об этом, я сказал: раз представлено будет свидетельство, что это член Учр[едительного] Соб[рания], то, конечно, пустить»), но и предполагавшийся спектакль в честь созыва собрания. Зилоти пояснил Флаксер-ману и его товарищам: «Что касается театрального представления по случаю открытия Учр[едительного] Соб[рания] 5 января в 2 ч. дня в Мариинском театре, то таковое было отменено уже 29-го декабря, так как срок открытия стал сомнительным. В сегодняшнем театральном репертуаре (который выйдет только завтра из-за недостатка электр[ического] тока) можно будет увидеть, что 5-го января абсолютно никакого спектакля в Мариинском театре не будет» (ГАРФ. Ф. Р-336. Оп. 1. Д. 160. Л. 5). Отпущенный в тот же день после допроса на Гороховой, произведенного лично Ф. Э. Дзержинским, Зилоти дал интервью прессе, в котором среди прочего еще раз остановился на судьбе пресловутого спектакля 5 января: «Этот спектакль устраивает совсем не он, Зилоти, а Всероссийский крестьянский союз. Однако представление это отложено ввиду отмены дня открытия Учредительного Собрания». При этом музыкант еще раз подчеркнул свою лояльность «хозяину земли русской»: «если Учредительное Собрание признает Совет Комиссаров, то и он не откажется признать власть сего Совета» (Бинокль, 1917, с. 4).
В начале января 1918 г. положение в государственных театрах кардинально изменилось. Большевики перешли в наступление, заняв 2 января 1918 г. здание Управления государственными театрами и отстранив Ф. Д. Батюшкова от работы [ Frame , 2000, p. 161]. А. И. Зилоти, подавший в отставку, но принявший участие в организации забастовки хора Мариинского театра, был в ночь с 11 на 12 января арестован вторично и лишь 14 января вышел на свободу (Арест А. И. Зилоти, 1918, с. 4; Хроника, 1918, с. 4). Назначенный по инициативе Луначарского в государственные театры правительственным комиссаром В. В. Бакрылов (человек, по характеристике его патрона, «немного нажимистый и несколько самоуверенный» ( Луначарский , 1968, с. 281)) привел театральное ведомство к покорности, не останавливаясь ни перед применением грубой силы, ни перед увольнением недовольных. В значительной степени «завоеванию» большевиками казенных театров способствовал разгон Учредительного собрания – теперь у тех, кто не сочувствовал ленинскому правительству, не оставалось более надежды на его скорое низложение.
Образ Учредительного собрания имел для артистов и администрации государственных театров большое значение на протяжении всего 1917 г. и начала 1918 г., хотя в отдельные периоды с ним связывались различные надежды и упования. На первом этапе, продолжавшемся от Февральской до Октябрьской революции, Учредительное собрание рассматривалось как единственно полномочный орган для проведения радикальной реформы театрального ведомства; при этом ссылки на его авторитет иной раз делались артистами с целью отстоять уже завоеванную «автономию» от «покушений» действовавшей администрации, а представителями последней – желая несколько охладить преобразовательный пыл артистов. На втором этапе (от падения Временного правительства до разгона Учредительного собрания) последнее превратилось в важнейший политический символ, став средоточием надежд всех тех, кто не принял власть большевиков (таковых среди артистов и чиновников государственных театров в рассматриваемое время было большинство). В этот период казенные театры по-разному подчеркивали свою лояльность «хозяину земли русской»: предоставляя сцену для агитации за выборы, устроив, в сотрудничестве с городской думой, торжественное представление 28 ноября, объявив правительственные ложи «ложами Учредительного собрания». В начале января 1918 г. силовая операция, проведенная Советским правительством с целью установления контроля над театральным ведомством, совпала по времени с разгоном Учредительного собрания, что нанесло мощный удар по сторонникам сопротивления большевикам в театральном ведомстве.
Список литературы "Ложа Учредительного Собрания": "хозяин земли русской" и бывшие императорские театры
- Гордеев П.Н. Государственные театры России в 1917 году. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. 856 с. EDN: CEHZFJ
- Barber C. Lost in the Stars: The Forgotten Musical Life of Alexander Siloti. Lanham (Maryland); Oxford: Scarecrow Press, 2002. 429 p.
- Frame M. The St. Petersburg Imperial Theaters: Stage and State in Revolutionary Russia, 1900-1920. Jefferson (North Carolina); London: McFarland & co, 2000. 214 p.