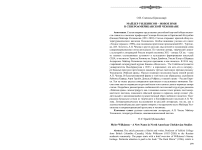Майлер Уилкинсон - новое имя в североамериканской чеховиане
Автор: Спачиль Ольга Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья впервые представляет российской научной общественности слависта и писателя профессора Селкирк-Колледжа из Британской Колумбии (Канада) Майлера Уилкинсона (1953-2020). Статью открывает краткий обзор литературоведческого наследия Уилкинсона. Особое внимание уделено его книге «Темное зеркало» (1996), она посвящена прочтению произведений И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других русских мыслителей и художников слова североамериканскими интеллектуалами. По мнению автора, творческий диалог с культурой и литературой России второй половины XIX - начала ХХ вв. - одна из главных составляющих духовного и культурного формирования писателей США, в частности Эрнеста Хемингуэя, Генри Джеймса, Уиллы Кэсер и Шервуда Андерсона. Майлер Уилкинсон получил признание и как писатель. В 2014 году старейший литературный журнал Канады «Фиддлхед» / The Fiddlehead (издается университетом Нью-Брансуика с 1945 г. и определяет, кто есть кто в литературе Канады) присудил престижную двадцать третью ежегодную премию рассказу Уилкинсона «Рабская кровь». Рассказ посвящен последним часам земной жизни А.П. Чехова. В беллетризованной форме к этой теме уже обращались за рубежом Реймонд Карвер, Анри Труайя, Дональд Рейфилд, в нашей стране - Руслан Киреев. Тем не менее рассказ совершенно оригинален и заслуживает внимания. Рассказ пока еще не переведен на русский язык и все цитаты даны в переводе автора статьи. Подробное рассмотрение особенностей поэтической структуры рассказа «Рабская кровь» демонстрирует, как с помощью смены точек зрения, постмодернистского пастиша, лишенного обычной иронии и сарказма, автор создает убедительный и запоминающийся художественный образ любимого писателя. Текст рассказа буквально соткан из творческого и биографического наследия А.П. Чехова. Литературоведческие исследования по русской литературе, так же, как и художественный рассказ дают право говорить о незаурядном месте Майлера Уилкинсона в североамериканской русистике и чеховиане.
Русская классическая литература, а.п. чехов, майлер уилкинсон, литература канады, неконвенциональный пастиш
Короткий адрес: https://sciup.org/149139959
IDR: 149139959
Текст научной статьи Майлер Уилкинсон - новое имя в североамериканской чеховиане
Признание рассказа «Рабская кровь» / “The Blood of Slaves” в 2014 г. [Wilkinson 2014] лучшим в Канаде было довольно неожиданным. Как сказал автор в одном из своих интервью, он меньше всего ожидал, что коротенький рассказ о русском писателе, умершем в 1904 г, вызовет такой интерес его современников-канадцев.
Для самого Уилкинсона выбор темы был далеко не случаен - более тридцати лет в его жизни были связаны с Россией и русской литературой. Майлер Уилкинсон многие годы преподавал в Московском университете (он один из разработчиков и преподавателей курса канадистики в МГУ), выступал как приглашенный лектор в ИМЛИ РАН А.М. Горького, в Ясной Поляне, активно участвовал в научной жизни нашей страны. В 1993 г. М. Уилкинсон получил грант Канадского бюро по международному образованию на техническое обеспечение и проведение курсов по информатике для студентов отделения «История культуры (Россия. Северная Америка)» Кубанского госуниверситета. М. Уилкинсон также прочитал цикл лекций о культуре индейцев Канады и о творчестве канадских женщин-художниц и поэтов. В 1993, 1995, 2000 гг. профессор Уилкинсон инициировал участие исследователей из университетов Британской Колумбии в «круглых столах», организованных в КубГУ центром «История культуры (Россия. Северная Америка)» (руководитель Л.П. Башмакова).
За несколько лет до своего ухода Майлер Уилкинсон написал в память о своем коллеге и друге из МГУ А.В. Ващенко, докторе филологических наук, специалисте в области мифологии народов мира и североамериканских индейцев теплые слова воспоминаний, которые ярко характеризуют и самого Уилкинсона: «Подарком Саши всем нам, путешествующим по этим краям, была Россия. Я помню поездки: в саму Москву, Сашин город; к чистым лугам Ясной Поляны; я также помню раскаленные плато Башкирии, расположенной на юге России, крутые берега Нижнего Новгорода, окаймляющие широкую Волгу - море шаманов и голубую мечту в устье Ангары; <.. .> Иркутск в начале мая, земля еще хрупкая от холода. Сны до сих пор проносятся перед глазами, мы ожидаем раннего поезда в Слюдянку, к озеру Байкал...» [Уилкинсон 2013, 34]. Заканчивает свою статью Уилкинсон лирическими строками стихотворения Сергея Есенина - тепло, трогательно и очень по-русски. Рассказ «Рабская кровь» Уилкинсон посвятил памяти Александра Ващенко - первого читателя, сердечного друга и наставника [An Interview 2014].
Магистерская диссертация Майлера Уилкинсона 1984 г. (по специальности англистика в университете Саймона Фрезера) [Wilkinson 1984] была посвящена изучению влияния, которое оказало творчество И.С. Тургенева на становление молодого Эрнеста Хемингуэя. Уилкинсон одним из первых обратил внимание, что именно благодаря Тургеневу, в особенности циклу рассказов «Записки охотника» и роману «Отцы и дети», будущий лауреат Нобелевской премии выработал свой уникальный стиль. Через два года появилась книга «Хемингуэй и Тургенев: природа литературного влияния» [Wilkinson 1986].
В 1996 г. в издательстве «Питер Ланг» вышла книга Уилкинсона «The Dark Mirror / Tjomnoje Zerkalo» [Wilkinson 1996]. В отличие от уже ставшего привычным социально-политического аспекта, сосредоточенного на сходстве и различии двух стран, эта книга о том источнике американской литературы, который не часто провозглашается литературоведами, но признается многими значительными американскими авторами. Диалог с культурой России (1860-1917), считает Уилкинсон, - неизменная составляющая духовного и культурного роста писателей США. Книга проникнута идеями М.М. Бахтина, ее отдельные страницы посвящены Генри Джеймсу / Henry James (1843-1916), Уилле Кэсер / Willa Cather (1873-1947), Шервуду Андерсону / Sherwood Anderson (1876-1941), Эрнесту Хемингуэю. Каждый из этих писателей интерпретировал авторов и произведения русской литературы в контексте американских реалий и традиций. Герои русской литературы, увиденные глазами писателей США, впервые собраны вместе и представлены в хорошо написанной книге.
В 2000 г. были опубликованы составленные Майлером Уилкинсоном совместно с Давидом Стуком две антологии, посвященные родному уголку Канады - Британской Колумбии. Одну из них составили путевые заметки, эссе и исторические документы под общим названием «Гений места» [Genius of Place]; вторая - «К западу от северо-запада» [West by
Northwest] - собрание короткой художественной прозы, ставшей уже классической для этой провинции Канады.
Обратимся к рассмотрению рассказа, главным героем которого является А.П. Чехов в последние часы своей земной жизни. За двенадцатью страницами рассказа - огромная эрудиция автора и полная погруженность в жизнь и произведения своего героя, сотни прочитанных писем, повестей, рассказов, пьес Чехова, воспоминаний о нем. Ткань рассказа создана из отрывков опубликованных воспоминаний О.Л. Книппер-Чеховой, записей из дневника А.С. Суворина, писем, художественных произведений А.П. Чехова. Наиболее часто мелькают строки из рассказов «Дама с собачкой», «О любви», «Душечка», «Крыжовник», «Мужики», «Учитель словесности». Имя Астрова всплывает в связи с заботой об экологии, упоминается мертвая чайка и другие вполне узнаваемые детали чеховских пьес. Первое определение подобного художественного приема, которое приходит на ум - пастиш. Однако современное использование термина в рамках постмодернизма как приема, сознательно деформирующего оригинал, иронично акцентирующего его черты или даже как некая «игровая критика», «передразнивание» [Лексикон] совершенно не соответствует духу рассказа «Кровь рабов». Если принять более ранний вариант произношения термина - «пастиччо», то и в его определении подчеркивается заложенный сатирический смысл, элемент пародирования [Головенченко 1974, 263]. Майлер Уилкинсон создает своеобразный монтаж, который логично включен в поток сознания умирающего Чехова, здесь пастиш выступает в нетрадиционной роли и вполне может быть назван неконвенциональным. Примечательна в этой связи графика рассказа - часть текста дана курсивом, некоторые цитаты из писем и произведений Чехова даны прямым текстом, но заключены в кавычки, иногда кавычки даны только с одной стороны, и цитата как бы вписывается в авторский текст. При воспроизведении цитат из рассказа мы сохраняем оригинальное написание.
В тексте используются слова на русском языке, они транслитерирован-ны и даны латинским шрифтом. Во внутренней речи протагониста появляется слово «скучно» skuchno, затем оно, возникшее в памяти, перерастает в цитату из Гоголя - «life is a dull affair, gentlemen» [Wilkinson 2014, 8] - и тянет за собой другую цитату - из Лермонтова: «Life’s dull and sad, and there s no one to...» [Wilkinson 2014, 8] («И скучно и грустно и некому...») -и снова цитату, только уже звучащую из уст Маши в «Трех сестрах»: «У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!» (С. XIII, 147). (Все произведения А.П. Чехова цитируются по Полному собранию сочинений А.П. Чехова [Чехов 1974-1983]. В круглых скобках указаны С. - сочинения, П. - письма, римской цифрой - том, арабской - страница). Появление новых ассоциативных цепочек прекращается только с последним выдохом главного героя. Второе транслитерированное слово poshlosl «пошлость». К этому слово автор дает комментарий - «посредственность, второстепенное и фальшивое, претендующее на истинную цель людей со вкусом». Эти два основных бича русской жизни, остро волновавшие Чехова, в рассказе

связаны в пару: пошлое скучно!
Реалистичность восприятия проходящих в сознании Чехова картин поддерживается упоминаемыми в тексте рассказа впрыскиваниями камфоры и морфина - они избавляют от страданий и буквально заставляют сердце биться из последних сил. Сознание спутанно и рождает своеобразную цепь ассоциаций. Так, голос Ольги Леонардовны, которая только что смеялась над придуманным рассказом о сбежавшем поваре и напрасно ожидающих обед богатых гостях, откликается в сознании повествователя целым рядом ласковых имен, романтических прозвищ, которыми А.П. Чехов щедро осыпал свою жену: actress, ту little pony, ту doggie without а tail.. . («актрисуля», «лошадка», «песик», «собака бесхвостая») [Переписка 2004]. Теплые и нежные обращения в письмах к жене от 27 и 30 сентября 1903 г. («Ну, лошадка, глажу тебя, чищу, кормлю самым лучшим овсом» и «Будь здорова, моя лошадка, будь весела и кушай себе овес» (П. XI, 258, 260)) тянут за собой упоминание и лошадей, которые едят овес, и «лошадиную фамилию» - Овсов, и лошадиное здоровье Пищика из «Вишневого сада», отец которого происхождение рода Симеоновых-Пищиков вел от «той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате...» (С. XIII, 229). Жена-лошадка и лошадь Калигулы прочно связываются в сознании умирающего Чехова: «Будь здорова, лошадка. Читай пьесу, внимательно читай. В пьесе у меня тоже есть лошадь» (П. XI, 273).
Все земное бытие русского писателя, пропущенное через творческое сознание Уилкинсона, свернуто в названии рассказа - «Рабская кровь». Слова отсылают к известному отрывку из письма А.П. Чехова к А.С. Суворину от 7 января 1889 г: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, - напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...» (П. III, 133). Эти строки Уилкинсон воспринимает со многими на то основаниями как биографические и представляет жизненный путь своего героя как духовную эволюцию раба-крепостного, воспитавшего в себе свободного человека. Выражение «выдавливать по каплям раба» в русском языке сегодня стало фразеологическим оборотом. Приведенный отрывок из знаменитого письма полностью цитируется в рассказе. Рабская кровь выступает и как метафора, и в прямом значении слова как реальная, человеческая кровь. В заключительной части рассказа несущая жизнь субстанция, “like a red flower coming into bloom, the blood welled up in his throat ... for the final time” «подобно раскрывающемуся красному цветку, поднимается к горлу» (здесь и далее перевод с английского наш - О. С) и истекает в последний раз. Финал закольцован с названием и здесь стоит точка, но введенное сравнение с красным цветком размыкает финал и ведет от Чехова к другому русскому писателю - В.М. Гаршину с его «Красным цветком», «впитавшим в себя всю невинно пролитую кровь» [Гаршин]. Аллюзивная отсылка к В.М. Гаршину не случайна, Улкинсон хорошо знал отношение Чехова к таким «редким людям, как Гаршин» [Zejmo 2017]. Писателей объединяли не только сходные темы и их литературное воплощение в форме рассказов и притч [Аверин 1983], но прежде всего высочайшая степень эмпатии, человеческий талант слышать чужую боль. Вслед за Чеховым такая духовная чуткость стала называться «Гаршинской закваской», именно этот дар Чехов ценил наиболее высоко [Старикова 2011; Тихомиров 2011].
Повествование в рассказе начинается с неопределенно личного “they say” - «говорят», затем появляется некий больной - “a sick тан”, который возражает на утешения врача: “says, it s по use sir, I shall die with the spring waters” («говорит: не поможет, с вешней водой уйду»). Здесь легко узнается отсылка к событиям марта 1897 г, когда у Чехова открылось сильное кровотечение во время обеда в Эрмитаже, и он был госпитализирован в клинику Остроумова на Девичьем поле. Чехова навестил Суворин и описал свой визит в «Дневнике»: «Больной смеется и шутит, по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москва-реке, он изменился в лице и сказал: “разве река тронулась?” Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: “Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: “Не поможет. С вешней водой уйду”» [Дневник 2000, 288].
Автор ведет повествование с точки зрения главного героя - Чехова. В рассказе совмещается точка зрения протагониста-Чехова, его внутренняя речь, но совершенно естественно напрашивающееся «я» повествователя в начальных предложениях рассказа заменено на «он» и предполагает наличие еще одного опосредованного наблюдателя, который находится одновременно и внутри героя, и вне его, некое вездесущее присутствие. То, что мы иногда не употребляем термин протагонист, но называем реальное историческое лицо его собственным именем и фамилией, обусловлено филигранной точностью биографических деталей. Во всем рассказе - ни одного вымышленного факта, ни одной придуманной автором мелочи, ни одной фальшивой ноты. Часто используемые обширные цитаты из писем писателя обостряют впечатление автобиографичности повествования. Именно в этих местах текста появляется «Я» и уже почти до самого конца рассказ идет от первого лица. В заключительных абзацах повествование снова ведется от третьего лица, но сохраняется внутренняя точка зрения персонажа:
“Не turned his face to the wall, and already Nikolai and Alexander, Olga, Anna, and

Lika, seemed somewhere very far behind him, growing further away. Anton Pavlovich, Anton Pav... they called, but he was no longer listening. A rattling sound like air in a rusted tap. Irritating. Ich Sterbe. I’m dying. Horses eat...
“And now it seemed to him that in only a few more minutes a solution would be found and a new, beautiful life would begin; but he knew very well that the end was still a long, long way away and that the most complicated and difficult part was just beginning.” And in that moment of beginnings, like a red flower coming into bloom, the blood welled up in his throat like an old friend for the final time.” [Wilkinson 2014, 18].
«Он отвернулся к стене, и уже Николай, и Александр, и Ольга, Анна, и Лика казалось остались где-то очень далеко позади, все дальше и дальше отдаляясь. Антон Павлович, Антон Пав... они звали, но он уже больше не слушал. Булькающий звук как воздух в проржавевших трубах. Раздражает. Ich Sterbe. Я умираю. Лошади едят...
“И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и ему [обоим] было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается”. В этот момент, когда все начиналось, подобно распускающемуся красному цветку, из горла потекла кровь, как старый друг, в последний раз».
Источники, которыми пользовался Уилкинсон для создания внутренней речи своего Чехова, лежат на поверхности и вполне очевидны для знакомых с биографией и творчеством писателя. В приведенном отрывке имя «Анна» введено в ряд родных и близких Чехову людей. Это имя принадлежит героине рассказа «Дама с собачкой», откуда заимствован и взятый в кавычки отрывок. Приведем еще два примера цитат из рассказа с указаниями на источники.
“A/v health is improving all the time, I wrote home to Masha, I’m getting stronger every day. Lies, suffocating, getting stronger every day” [Wilkinson 2014, 9]. В нашем переводе этот отрывок рассказа выглядит так: «Мое здоровье становится лучше с каждым днем, - так я написал домой Маше. Ложь, задыхаюсь, лучше с каждым днем». Английское отглагольное существительное ‘suffocating’, после которого идет ‘getting stronger’, вполне можно перевести и как «удушье, которое становится сильнее с каждым днем». Сопоставление с письмами А.П. Чехова сестре Марии Павловне из Баденвейлера от 22 (5 июля), («я здоров, чувствую себя лучше, чем вчера»), 26 (9 июля) («здоровье мое становится все лучше, <...> дела мои по части здравия пошли на поправку по-настоящему»), от 28 (11 июля) 1904 г. («.. .здесь жара наступила жестокая..., я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда») (П. XIII, 129, 130, 132) не оставляют сомнений в их принадлежности историческому Чехову. Беллетризованная документальность прослеживается буквально в каждой строке рассказа. Приведем еще один пример: “Му dear little sperm whale, he called her, crocodile of my heart, little ginger-haired doggy, incomparable little horse, I caress you with my hooves and wave my little tail, oh doggie, doggie. She asked once if I did not like per proper name. It was only that I liked all her improper names better.”
[Wilkinson 2014, 10]. В нашем переводе указаны все ссылки на использованные цитаты из писем: «“Кашалотик мой милый” (П. XII, 51), так он ее называл, “крокодил моего сердца” (П. IX, 111), “рыжая собака” (П. IX, 179), лошадка несравненная, “ласкаю копытцем и хвостиком помахиваю” [Переписка 2004, 289], “ах, собака, милая собака” (П. X, 101). Она как-то спросила, нравится ли мне ее собственное имя. Нравится, но неприличные имена нравятся больше». Действительно в самом начале отношений с А.П. Чеховым О.Л. Книппер подписывала свои письма Ольга, Оля, и удивлялась тому, что в своих посланиях Чехов почти никогда не называл ее по имени, предпочитая ласковые и шутливые, но иногда весьма двусмысленные прозвища - «жидовочка» (П. IX, 151), «актриска» (П. IX, 164) «жестокая, свирепая женщина», «рыжая собака» (П. IX, 178), «крокодил», «змея» и т.п. Позже Ольга Леонардовна сама приняла чеховский игривый тон и довольно изобретательно наделяла своего избранника и позже мужа прозвищами: «дусик», «дусюка», «Антонка» и подписывала свои письма «собака», «твоя собака», «твоя Книппуша» и т.д.
Талант Уилкинсона-писателя не в том, что он придумывает и приписывает своему персонажу не бывшее, а как раз в том, что подлинно буквально каждое слово. И при этом автор умело использует богатое семантическое значение английских слов и синтаксиса. Так слово ‘proper’ в словосочетании ‘proper name’ обозначает ‘имя собственное’, но взятое отдельно, а тем более в противопоставленное антониму ‘improper’ - ‘неправильный’, ‘неподходящий’, ‘неприличный’ актуализирует значения ‘приличное’, ‘подходящее’ и придает всей фразе авторскую ироничную семантику.
Фактическое время, описанное в рассказе - несколько часов до смерти определяется по воспоминаниям О.Л. Книппер, где есть, в частности такие строки: «Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!» [Книппер-Чехова 1986, 631].
На момент написания рассказа были опубликованы не только уже упомянутые воспоминания О.Л. Книппер-Чеховой, но и воспоминания других свидетелей ухода Чехова - врача и двух студентов. Вряд ли мимо внимания Уилкинсона прошел вышедший в 2007 году том «Чеховианы» с обширной подборкой выдержек из писем, дневников и прессы под общим заглавием «Современники о смерти Чехова», где в частности приводятся слова доктора Швёрера, переданные по телеграфу «Новому времени»: «В час ночи он проснулся от сильного удушья, несмотря на все энергические меры , подкожные впрыскивания камфары, вдыхание кислорода и проч., Чехов скончался в 3 часа утра без агонии. Он переносил свою тяжелую болезнь, как герой; со стоическим изумительным спокойствием ожидал он смерти» [Ахметшин 2007, 538].
Итак, хронологическое время с часу ночи до трех утра расширяется в рассказе благодаря большому количеству ретроспекций и включает практически всю жизнь писателя, ее самые значимые и яркие моменты: таганрогское детство, розги патриархального отца, писательскую известность и
славу, встречи с Л.Н. Толстым, дружбу с А.С. Сувориным, несостоявшую-ся любовь с Л.С. (Ликой) Мизиновой, брак с О.Л. Книппер.
На вопрос корреспондента [An Interview], почему был написал рассказ именно о Чехове, Уилкинсон дал развернутый ответ, суть которого можно свести к желаю быть причастным к Чехову, самому веселому и, возможно, самому грустному писателю в истории, войти в общение с ним. Для Уилкинсона отсутствие Чехова в жизни созвучно восклицанию, с которого начинает свое стихотворение Саша Черный: «Ах, для чего нет Чехова на свете!». Мир Чехова, начиная от лавочки в Ореанде неподалеку от Покровской церкви, заканчивая размытыми дорогами российской глубинки и флигелем в Мелихове, продолжал оставаться для Уилкинсона реальным, живет в его сознании огромным количеством цитат и деталей. Чехов -любимый писатель. Поездки по России для Уилкинсона, как это ни покажется странно, были наполнены ожиданием буквально реальной встречи с Чеховым. Исторически писатели разминулись на сто лет, но в рассказе «Рабская кровь» эта встреча, безусловно, состоялась.
Список литературы Майлер Уилкинсон - новое имя в североамериканской чеховиане
- Аверин Б.В. Всеволод Гаршин // История русской литературы: в 4 т. Т. 4. Л.: Наука, 1983. С. 123-142.
- Ахметшин. Р.Б. Современники о смерти А.П. Чехова (Письма, дневники, пресса) // Чеховиана. Из века ХХ в XXI: итоги и ожидания. М.: Наука, 2007. С. 510-576.
- Гаршин В.М. Красный цветок. URL: http://az.lib.ru/g/garshin_w_m/text_0040. shtml (дата обращения: 22.07.2021).
- Головенченко А. Пастиччо // Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. С. 263.
- Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текстол. расшифровка Н. Роски-ной; подгот. текста Д. Рейфилда, О. Макаровой. London: The Garnett Press; М.: Изд-во Независимая газета, 2000. 670 с.
- Книппер-Чехова О.Л. О А.П. Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. Москва: Художественная литература, 1986. С. 612-632.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. 607 с.
- Переписка А.П. Чехова и О.Л. Книппер: в 2 т. / сост., коммент. З.П. Удаль-цовой. М.: Искусство, 2004.
- Старикова В.А. «Припадок» // А.П. Чехов. Энциклопедия / сост. и науч. ред. Катаев В.Б. М.: Просвещение, 2011. С. 157-158.
- Тихомиров С.В. «Пари» // А.П. Чехов. Энциклопедия / сост. и науч. ред. Катаев В.Б. М.: Просвещение, 2011. С. 145-146.
- Уилкинсон М. «Тихо льется с листьев кленов медь» // Мир Севера. 2013. № 5. С. 41-42.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. М.: Наука, 19741983.
- An Interview with Myler Wilkinson // Fiddlehead. May 8, 2014. URL: https:// thefiddlehead.ca/content/interview-myler-wilkinson (дата обращения 13.06.21).
- Johnson W. Local author delves into the life of Chekhov // BC Local News. June 12, 2014. URL: https://www.bclocalnews.com/entertainment/local-author-delves-into-the-death-of-chekhov/ (дата обращения 13.06.2021).
- Stouck D., Wilkinson D. (eds.). Genius of Place. Vancouver: Polestar Book Publishers, 2001. 432 p.
- Stouck D., Wilkinson D. (eds.). West by Northwest. British Columbia Short Stories. Vancouver: Polestar Book Publishers, 2001. 288 p.
- Wilkinson M. Ernest Hemingway and Ivan Turgenev: The Nature of Literary Influence: thesis ... for the degree of M.A. ... Simon Fraser University, 1984. 117 p.
- Wilkinson M. Ernest Hemingway and Ivan Turgenev: The Nature of Literary Influence. Ann Arbor: UMI Research Press, 1986. 126 p.
- Wilkinson M. The Blood of Slaves // The Fiddlehead. Spring 2014. No. 259. P. 7-18.
- Wilkinson M. The Dark Mirror / Tjomnoje Zerkalo: American Literary Response to Russia. New York: Peter Lang Inc., 1996. 189 р.
- Zejmo B. Человек «гаршинской закваски» в творчестве Антона Чехова // Przegl^d Rusycystyczny. 2017. nr 2(158). S. 5-18.