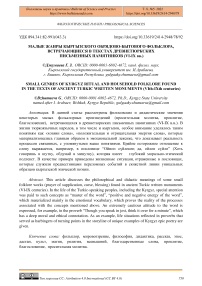Малые жанры киргизского обрядово-бытового фольклора, встречающиеся в текстах древнетюркских письменных памятников (VI-IX вв.)
Автор: Джумаева Гульгаакы Зулумбаевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 5 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены философские и дидактические значения некоторых малых фольклорных произведений (просительная молитва, проклятие, благословение), встречающихся в древнетюркских письменных памятниках (VI-IX вв.). В жизни тюркоязычных народов, в том числе и киргизов, особое внимание уделялось таким понятиям как «хозяин слова», «положительная и отрицательная энергия слова», которые материализовались главным образом в эмоциональной лексике, что доказывает реальность процессов связанных, с упомянутыми выше понятиями. Крайне осторожное отношение к слову выражается, например, в пословице “Ойноп сүйлөсөӊ да, ойлоп сүйлө” (Хоть говоришь в шутку, обдумай в минутку), которая имеет глубокий морально-этический подтекст. В качестве примера приведены жизненные ситуации, отраженные в пословицах, которые служили предвестниками переломных событий в сюжетной линии уникальных образцов киргизской эпической поэзии.
Фольклор, мировоззрение, философия, дидактика, рассказ, эпос, дастан, культ, магия, религия, всевышний, благодарственные слова, проклятие, благословение, просительная молитва
Короткий адрес: https://sciup.org/14123943
IDR: 14123943 | УДК: 894.341:82-991(043.3) | DOI: 10.33619/2414-2948/78/92
Текст научной статьи Малые жанры киргизского обрядово-бытового фольклора, встречающиеся в текстах древнетюркских письменных памятников (VI-IX вв.)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 894.341:82-991(043.3)
В мировоззрении кыргызского народа существуют свидетельствующие о культе слова понятия (благопожелание, благодарственные слова, проклятие, благословение), которых невозможно рассматривать отдельно от других религиозных понятий. Как и все речевые произведения, они реализуются в конкретных жизненных ситуациях, которыми, собственно, и мотивированы их особые положительные или отрицательные эмоционально-смысловые заряды. Именно поэтому эти особые речевые произведения встречаются не только в малых фольклорных жанрах, но и в масштабных эпических полотнах, в которых они нередко выступают в качестве предвестников переломных моментов в судьбах эпических героев.
Для малых фольклорных жанров характерны ряд особенностей, которые выражаются главным образом в их философско-дидактическом, художественно-эстетическом аспектах. Однако следует отметить, каждый из названных выше малых жанров фольклора обладает своей структурной и семантической спецификой. Ранние образцы таких текстов часто встречаются в Орхоно-Енисейских письменных памятниках. В частности, в каменном надгробии принца Кюль-тегина есть следующее обращение его брата Могилян кагана (Бильге-кагана): 9.«Ты, не принимая (т.е. не слушаясь) поднявшего (тебя) ни твоего хана, ни слова его, (стал) бродить по всем странам и там совершенно изнемог и изнурился (т.е. большая часть твоя погибла); вы же, оставшиеся тогда (живыми), по всем странам скитались в совершенно жалком положении (букв.. то живя, то умирая). По милости неба и потому что у меня самого было счастье, я сел (на царство) каганом. Став каганом». В приведенном фрагменте имеет место предложение, в котором идет речь о благословении небес. Предложение, схожее по смыслу, встречается в следующем отрывке: 25. «(В честь моего дяди-кагана) я поставил во главе (вереницы могильных камней) «балбалом» киргизского кагана. (Тогда) Небо, которое, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа, возвысило моего отца-кагана и мою мать-катун. Небо, дарующее (ханам) государства, посадило меня самого, надо думать, каганом, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа». 26. «Я отнюдь не сел (на царство) над народом богатым (скотом?), я сел (на царство) над народом, у которого внутри не было пищи, а снаружи одежды, (над народом) жалким и низким. Мы переговорили (о делах) с моим младшим братом Кюль-Тегином, и, чтобы не пропало имя и слава народа, добытого нашим отцом и дядею» [9]. Как уже отмечено выше, в предложениях, выделенных жирным шрифтом, выражается доброе намерение, просьба, направленная к всевышнему. Слово «тилек» с кыргызского языка переводится как «доброе намерение», «просительная молитва», направленная к богу о том, чтобы он дал мир, согласие, достаток, счастье, младенца и других не менее важных для человека жизненных благ. Народ искренне верил, что осуществление просительной молитвы зависит от того, кто с просьбой обращается к богу и поэтому такую миссию, доверялилюдям, пользующимся наибольшим уважением и почетом среди своего народа. К числу художественных образов таких старцев следует отнести образ Кошоя в эпосе «Манас».
Правитель рода Катаган,
Могучий старец Кошой-хан.
Дружину щедро одарил,
И в добрый путь благословил [7].
Во многих случаях слово «тилек» (доброе намерение, просительная молитва) и слово «бата» (благословение, благопожелание) употребляются в качестве синонимов, обозначающих одно и то же понятие. Но следует отметить, что они имеют разные семантико-функциональные оттенки. В частности, слово «тилек» в кыргызском языке может означать намерение, о котором человек может и не говорить открыто, а «бата» имеет, как правило, стихотворную форму и дается разным людям в определенных жизненных ситуациях. В толковом словаре кыргызского языка дается следующие толкования слова «бата»: 1. Первая сура карана. 2. Краткая молитва богу. 3. Просительная молитва. Первое значение слова «бата» совпадает со значением слова «Фатиха», которое в переводе с арабского означает «открывающая книгу». Сура посвящена Великому Аллаху, являющемуся Творцом и Господом обитателей миров. В связи с чем Мухаммад (с.г.в.) называл её «величайшей сурой Корана». Несмотря на, казалось бы, небольшой объём, сура «АльФатиха» несёт в себе большой смысл и имеет огромную значимость в жизни людей, и никакой другой аят ни одной из Книг Творца не сможет с нею сравниться. Таким образом, указанные выше смыслы данного слова сводятся к тому, что слово «бата» означает доброе намерение и просительную мольбу, направленную к всевышнему и имеет непосредственную связь с понятиями традиционных религий. Как уже было отмечено выше, можно привести множество примеров для иллюстрации из малых фольклорных жанров, а также эпических произведений титанического масштаба как эпос «Манас», в котором есть известный эпизод, где старец Кошой дает свое благословение Каныкей. Во время поминок по Кокотаю против китайского богатыря Жолой с кыргызской стороны, несмотря на свой преклонный возраст, выступает старец Кошой. До этого, чтобы получить благословение необыкновенно почитаемого кыргызами старца Кошоя, чье благословение оказывало благоприятное воздействие на весь кыргызский народ, Каныкей в течение 12 лет из особого материала и особым мастерством сшила ему специальные боевые брюки «кандагай». Во время поединка старец Кошой одерживает победу над китайским великаном Жолоем и будучи благодарным за удобство брюк, за искусное мастерство и мудрость Каныкей, благословляет ее следующими словами:
С благословения единого бога Аллах,
Если у нее будет ребенок Пусть не будет девочкой, А пусть будет мальчиком! Пусть будет не медведем, а тигром! Пусть он будет метким стрелком, Пусть станет он удачливым воином!.. Если придет враг на нашу землю
Пусть он защитит как твердое железо!
Если она родит мальчика,
Пусть имя его будет Семетей! [8]
Именно поэтому “бата” для кыргызов представляет собой целый обряд и они верили в ее магическую силу. Схожие эпизоды встречаются и в фольклоре многих тюркоязычных народов. Например, в «Книге деда Коркута» есть эпизоды, описывающие рождения богатырей, которых нарекает именем Коркут и давая им свое благословение, произносит свои пророческие речи.
Я дам прорицание, хан мой,
Твои родные черные горы да не сокрушатся,
Твое тенистое, крепкое дерево да не будет срублено,
Твои вечно текущие, прекрасные воды да не иссякнут,
Твои шатры да не будут разрушены!
Пусть твой серый конь, скача, не устанет,
Пусть твой черный булатный меч, ударяя, не иступится! [5].
Вера в святость благословения и в его магическую силу сохранилась до сегодняшнего дня в коллективном сознании кыргызского народа, поэтому иногда «бата берүү» проводится как отдельный, полноценный обряд. В этой связи следует привести следующее мнение К. Ибраимова: «...В начале под словом “бата” понимали совершения дуа после намаза, т.е., верующий произносил дуа подняв свои руки, повернув их ладонями вверх перед своим лицом. Позже начальная форма данного ритуала трансформировалась в качественно новую форму обряда, который называется “ак бата” или “алкыш». Данный обряд имеет форму молитвенного пожелания успеха, счастья, долголетия и других благостей человеку [2].
Несомненно, что упомянутые выше вопросы, так или иначе связанные с позитивным или негативным эмоционально-смысловым зарядом слов, обретают без всякого преувлечения первостепенный характер. Поскольку в настоящее время в разных сферах жизни современного общества растет число конфликтных ситуаций, которые сопровождаются главным образом вербальной агрессией, концентрирующей в себе элементов черной риторики и нецензурной лексики. Все эти факторы, безусловно, оказывают негативные воздействия на душевное, психическое и физическое здоровье современного человека. Именно поэтому не теряют актуальность наставления наших предков о позитивной энергетике благословения, благопожелания, благодарственных слов и о разрушающей силе проклятия, которые имеют особое, сакральное значение в жизни кыргызского народа.
Помимо упомянутых выше письменных памятников, следует также вспомнить произведение Фазллаллах Рашид ал-дина «Огуз-наме», в одном из эпизодов которого повествуется о том, как Огуз сражается с племенами своих родственников. Но они не принимают условия, предложенные им Огузом и за это он их проклинает и отрекается от них: Не успел возвращавшийся с охоты Огуз подойти к дому, как его отец и дяди вместе со своими близкими уже были готовы к сражению. Огуз с своими слугами сразился с ними и во время этого сражения были убиты его отец Кара-хан и дяди Кюр-хан и Кюз-хан. Огуз укрепился на своем месте и в течение 75 лет постоянно сражался с племенами своих дядей. В конце концов он одолел их и уничтожил. Он подчинил себе их вилайеты и улусы до самых дальних окраин Каракурума. В конце концов те, что уцелели (не погибли от меча), подчинились его власти. Они сказали: «Мы из твоего же рода и племени. Мы ветви от одного корня и его же плоды. Зачем ты прилагаешь столько сил для того, чтобы извести нас?”
Огуз сказал: «Если вы признаете господа и его единство, то тогда ваши души получат пощаду (аман) и я определю вас для проживания в Туркестане”
Однако они этого не приняли, и Огуз преследовал их до Каракурума. И они были принуждены переселиться в степи и долины вдоль берегов реки Тугла и жить там в нищете. Они превратили эти места в свои летовки (яйлак) и зимовки (кышлак). От бедности, нищеты, [29] бессилия и недомоганий они пребывали в постоянной печали и грусти. Огуз стал называть их мовал, что означало: «Будьте всегда опечаленными, стесненными и несчастными. Носите собачьи шкуры, ешьте только дичь и никогда после этого в Туркестане не появляйтесь!”. В последних предложениях приведенного выше фрагмента из произведения «Огуз-наме» выражается негативная энергетика проклятия, поскольку оно охватывает духовную и физическую сторону жизни племен, которые подверглись проклятию. Следовательно, в них ярко прослеживаются непримеримость, враждебность, бескомпромиссность и жестокость, которые также могут выражатся в мотивах так называемых прямых проклятий, встречающихся в различных фольклорных и литературных произведениях. В качестве классического примера можно привести проклятия Сур эчки (серой козы) из малого эпоса «Кожожаш», в котором проклятие играет ключевую роль в развитии сюжетной линии, в ходе которой охотник Кожожаш истребляет молодое потомство серой козы. После он стреляет в Алабаша и попадает в него. Лишившись всего своего потомства, Сур эчки обращается к Кожожашу и умоляет охотника, державшего нож над раненым Алабашем, но он убивает Алабаша. Тогда Сур эчки решает жестоко отомстить охотнику за своих козлят и Алабаша :
Всевышним будь проклят весь род твой и ты!
Ты глух. Не услышал ты просьбы моей.
Весь род уничтожил мой, малых детей
Я горькую чашу испила до дна.
На старости лет я осталась одна.
Остались с тобой. Нам обоим не жить.
Досель я просила – теперь буду мстить! –
Сур эчки удается заманить охотника на склон неприступной скалы и оставить его там умирать от голода и холода.
События финального эпизода данного эпоса имеет интертекстуальный характер, т.е., схожие, созвучные сюжеты встречаются в фольклорных произведениях у многих других народов, о которых в свое время говорил Ч. Айтматов в одном из своих встреч с читателями в Европе. В частности, он говорил о философском значения заговоров во время посева (“Үрөн сепкенде”), которые произносились нашими предками тысячи лет назад, что свидетельствует их непоколебимую веру в силу молитвенных слов. И о том, что мы никогда не должны отказываться отнаших духовных, культурных истоков, должны свято верить в силу духа, разума и слова, ибо Бог живет в слове, таинственная, неразрывная связь между которыми останется неразгаданной. Именно этим объясняется крайне острожное отношение народа к слову, которое может стать кодом запрограммированной судьбы человека, произносящего его. Эта идея получила отражение в пословице «Ойноп сүйлөсөӊ да, ойлоп сүйлө» (Хоть говоришь в шутку, обдумай в минутку), в которой ярко отражаются нравственно-этические принципы речевого поведения человека.
Из всего сказанного следует, что рассмотренные в статье некоторые малые жанры обрядово-бытового фольклора, такие как просительная молитва, проклятие, благодарственные слова, благопожелание, благословение представляют собой уникальный образец традиционной культуры тюркских народов, в том числе и кыргызского народа. Поскольку в них заключена магическая сила слова и многовековой жизненной опыт народа. Эти уникальные образцы народного устного творчества, имеющие под собой глубокий философский подтекст, издревле выполняли нравственно-этические, духовные, дидактические функции, которые обретают особую актуальность в контексте современных процессов глобализации. Поскольку в условиях современных реалий, проникающих в национальные культуры, происходят процессы универсализации культуры и они становятся серьезной угрозой для каждой самобытной, уникальной культуры, а значит и для духовнокультурной жизни человечества в целом.
Список литературы Малые жанры киргизского обрядово-бытового фольклора, встречающиеся в текстах древнетюркских письменных памятников (VI-IX вв.)
- Огуз каган // Ала-Тоо. 1999. №9. С. 23-45.
- Ибраимов К. Бата-тилек айтымдары // Вестник НГУ. 2000. №9. С. 56-60.
- Карагул ботом. Элдик поэмалар // Эл адабияты сериясы. Т. 31. 2012. 380 с.
- Кожожаш: Эпос. "Эл адабияты" сериясы. Т. 1. Бишкек, 1996. 248 с.
- Коркут ата китеби: Эпос. Бишкек, 2004.
- Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Фрунзе, 1969. 756 с.
- Орозбаков С. Манас: Эпос. Т. 2. Фрунзе, 1979. 315 с.
- Орозбаков С. Манас: Эпос. Т. 3. Фрунзе, 1981. 348 с.
- Орхон-Енисей тексттери. Фрунзе, 1982. 239 с.