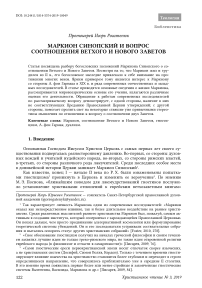Маркион синопский и вопрос соотношения ветхого и нового заветов
Автор: Рогатенюк Игорь Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библеистика
Статья в выпуске: 3 (86), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разбору богословских положений Маркиона Синопского о соотношении Ветхого и Нового Заветов. Несмотря на то, что Марикон жил и трудился во II в., его богословское наследие привлекало к себе внимание на протяжении многих веков. Ярким примером тому является интерес к Маркиону со стороны А. фон Гарнака в XIX в. и ряда современных отечественных и западных исследователей. В статье приводятся основные сведения о жизни Маркиона, рассматриваются мировоззренческие основы его учения, излагаются различные оценки его деятельности. Обращение к работам современных исследователей по рассматриваемому вопросу демонстрирует, с одной стороны, наличие в них не соответствующих Преданию Православной Церкви утверждений; с другой стороны, помогает пролить свет на некоторые ставшие уже привычными стереотипы мышления по отношению к вопросу о соотношении двух Заветов.
Маркион, соотношение ветхого и нового заветов, гностицизм, а. фон гарнак, дуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140246706
IDR: 140246706 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10049
Текст научной статьи Маркион синопский и вопрос соотношения ветхого и нового заветов
Основанная Господом Иисусом Христом Церковь с самых первых лет своего существования подвергалась разностороннему давлению. Во-первых, со стороны духовных вождей и учителей иудейского народа, во-вторых, со стороны римских властей, в-третьих, со стороны различного рода лжеучителей. Среди последних особое место в доникейской истории Церкви занимает Маркион Синопский1.
Как известно, конец I — начало II века по Р. Х. были ознаменованы попытками гностицизма2 проникнуть в Церковь и изменить ее вероучение3. По мнению М. Э. Поснова, «ближайшим поводом для лжемудрствований гностиков послужило установление христианами отношений к еврейским ветхозаветным книгам»
[Поснов, 1912, 16] через частое использование аллегорического метода истолкования [Поснов, 1912, 15–16].
Основным положением гностицизма является дуализм, относящий «творение материального мира и его историю к сфере деятельности злого начала, действующего независимо от воли трансцендентного и неведомого Бога» [Пономарев, 2006, 628]. Это дуалистическое восприятие мира естественным образом находило свое продолжение в утверждении о неравенстве двух Заветов — Ветхого и Нового4. Именно на противопоставлении «Бога Ветхого Завета» и «Бога Нового Завета» построено лжеучение Маркиона5.
В то же время среди гностиков существовали различные оттенки дуалистического мировоззрения: «Собственно истинные гностики утверждали только неравенство двух Заветов. Они учили, что в ветхозаветном Откровении говорил и действовал не высочайший и совершеннейший Бог, а Демиург. По различию представлений о Демиурге и взгляды гностиков на Ветхий Завет являются в двух формах. Одни гностики, например Маркион и его ученик Апеллес, почитают Демиурга за существо, враждебное Богу, а потому не признают никакой связи между двумя Заветами. Другие представляют Демиурга как подчиненное Богу, ограниченное, но не враждебное Ему существо, которое сознало сообщенные Ему Богом идеи только в явлении Христа» [Леонардов, 1907, 587–588].
Богословские взгляды Маркиона заставили церковных писателей II, III и IV вв. подробно разобрать6 вопрос о соотношении двух Заветов7. Стоит отметить, что «с точки зрения своего долговременного воздействия маркионитское движение сохранилось, по крайней мере, до середины четвертого века на Западе и, возможно, на пару веков дольше на Востоке. Убедительные доказательства силы движения, возможно, обнаруживаются в повторных и подробных опровержениях, вышедших из-под пера ранних христианских писателей» [Foster, 2010, 278].
Взгляды Маркиона еще долго будут витать в христианском мире. Как отмечает К. Райт, «дух Маркиона, хотя он и был официально отвержен Церковью, витал в герменевтических традициях на протяжении веков, проявляясь в антиномистских тенденциях радикального крыла Реформации, антиисторическом экзистенциализме Бультмана и его соратников, а также (по совершенно другим богословским причинам) в современном диспенсационализме. И это только богословские движения. Многие церкви на практике являются маркионистскими в своем абсолютном пренебрежении Писаниями (которые использовал Сам Иисус), отказываясь читать их во время богослужения, даже когда этого требует богослужебная книга. И неудивительно, что существует такая неразбериха в отношении того, что и как Ветхий Завет может дать христианам для практической жизни» [Райт, 2010, 412].
Подобные взгляды о влиянии идей Маркиона разделяет и П. Фостер: «Часть убеждений Маркиона (особенно вера в отказ от еврейского Писания) продолжали казаться внешне привлекательными для некоторых христианских групп на протяжении веков» [Foster, 2010, 279].
Очевидно, что вопрос соотношения Ветхого и Нового Заветов в целом, а также в контексте исследования личности и воззрений Маркиона, остается актуальным и по сей день8. Ряд современных исследований смотрят на этот, казалось бы, уже давно решенный вопрос по-иному, чем это делали, к примеру, Ириней Лионский или Епифаний Кипрский, видя в Маркионе чуть ли не героя-реформатора9. В то же время некоторые современные исследования помогают пролить свет на вопрос о соотношении Заветов в ХХ в., проследить генезис современных подходов, отрицающих или минимизирующих наличие духовного единства двух Заветов. По свидетельству М. П. Морева, как в дореволюционной России, так и по сей день отсутствуют отдельные работы, посвященные Маркиону и его теологии [Морев, 2002, 6].
2. основные сведения о жизни и учении маркиона
Как уже было отмечено выше, фигура Маркиона видится многим исследователям одной из центральных в истории Церкви и церковного учения доникейского пери-ода10. На историческую сцену Маркион вышел во II в. Он происходил из Синопы Понтийской и был сыном местного епископа. В целом, такой взгляд на место происхождения Маркиона является традиционным11. Как известно, Понт был одной из провинций Римской империи, о которой трижды упоминается в Новом Завете, и конечно, там была еврейская диаспора. Анализ этих упоминаний позволил П. Фостеру вполне обоснованно говорить о существовании «сложных отношений между молодой общиной верующих и имеющей более долгую историю еврейской» [Foster, 2010, 270]. По мнению Фостера, связь с Понтом объясняла бы знание иудаизма и ранней христианской Церкви, которые были у Маркиона [Foster, 2010, 271]. В то же время недоверие у этого исследователя вызывает упоминание у раннехристианских авторов определенного города, из которого происходил Маркион: «По-видимому, — пишет П. Фостер, — это тип дополнительной детали, которая могла быть предоставлена, чтобы убедить аудиторию автора, что они могут полагаться на его слова, поскольку автор знает конкретные детали жизни того, о ком рассказывает» [Foster, 2010, 270].
Далее жизнь Маркиона связана с Римом. По мнению С. Молля, Маркион поселился в Риме в 144 или в 145 г. по Р. Х. Здесь он «присоединяется к поместной Церкви и жертвует 200 000 сестерциев, часть его почтенного состояния, которое он приобрел как судовладелец» [Moll, 2010, 284]. Проф. В. В. Болотов говорит о том, что перед этим событием отец Маркиона отлучил последнего от местной Церкви за антииудаизм [Болотов, 2011, 382]. По мнению С. Молля, ко времени переселения в Рим Маркион уже полностью развил свое учение и начал проповедовать его в столице [Moll, 2010, 284]. Здесь же, в Риме, Маркион встретился с сирийским гностиком Кердоном, и именно этим проф. Болотов объясняет наличие гностического влияния в мировоззрении Маркиона12. При папе Элевферии (174–189) Маркион был отлучен от Римской Церкви [Болотов, 2011, 382]. Смерть Маркиона, по мнению С. Молля, случилась около 165 г. по Р. Х. в Риме [Moll, 2010, 285].
Рукописи работ Маркиона не сохранились13, поэтому восстановление его взглядов возможно лишь через обращение к трудам тех авторов, которые полемизировали с ним или упоминали о нем. Это, в первую очередь, Тертуллиан и его «Пять книг против Маркиона», Диалог Адамантия, сохранившийся под именем Оригена, и «Па-нарион» Епифания Кипрского [Foster, 2010, 273].
Как уже отмечалось выше, мировоззрение Маркиона дуалистично14. Точкой отправления в его богословии был вопрос об отношении между Ветхим и Новым Заветами. «Что касается его личного развития, то душа Маркиона, похоже, заражена фанатичной ненавистью к миру. Мы не знаем, что вызвало это огромное чувство ненависти, но мы знаем, что он так мучается им, что ему нужно объяснение всего зла в мире, или, точнее, ему нужен кто-то, кто виноват в этом» [Moll, 2010, 283]. В связи с этим Маркион концентрируется на тех отрывках из Ветхого Завета, которые «раскрывают» ветхозаветного Бога как злого Творца. Ключевым отрывком для него является Ис 45:7: «Аз устроивый свет и сотворивый тму, творяй мир и зиждяй злая» (Ис 45:7) [Moll, 2010, 282].
Помимо этого общего упрека, Маркион особенно обвиняет Создателя в несовершенном творении человека. «Таким образом, Маркион, не будучи озабоченным теодицеей, является поборником антроподицеи. Тот факт, что человек является пресловутым нарушителем закона, является не его ошибкой, а Творца, который просто мог бы создать его сильнее и более стойким. Эта концепция приводит нас к двум другим особенностям ветхозаветного Бога: он является Законодателем и Судьей. Очевидно, Маркион не уважает эти титулы. Ибо этот Бог судит людей за нарушение Своего закона, хотя Он сам виноват в том, что они слишком слабы, чтобы повиноваться Ему. В этом свете Он действительно играет очень жестокую игру со Своими подданными» [Moll, 2010, 283].
Что же касается Нового Завета, то «Маркион убежден, что первоначальное Евангелие Христа было сфальсифицировано Церковью. Это — теория, которая, по его мнению, находит подтверждение в писаниях апостола Павла, который говорит о ложных братьях, „скрытно приходивших подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас“ (Гал 2:4)» [Moll, 2010, 284].
В качестве материала для создания своего учения Маркион использовал канонические тексты Церкви, часть из которых он сократил и отредактировал, а часть просто отверг. В результате у него получилось искаженное Евангелие, в основе которого лежало Евангелие от Луки, и свой апостольский кодекс из десяти Посланий апостола Павла, с исключением Посланий соборных, пастырских и к Евреям. Он также написал особое сочинение, «Антитезы», в котором доказывал свой основной пункт, что Бог Нового Завета не может быть отождествлен с Богом Ветхого Завета [Болотов, 2011, 382].
Именно Тертуллиан сообщает нам название основной работы Маркиона — «Ан-титезы»15. Суть этой работы заключается в том, что, «в отличие от космологических систем в некоторых формах гностицизма, которые рассматривали Бога еврейского Писания как низшее божество, ответственное за создание материального мира, что, следовательно, отдаляло Верховного Бога от пороков материального мира, Мар-кион создал более исключительное противостояние между этими двумя божествами» [Foster, 2010, 276].
Опора Маркиона на Послания ап. Павла говорит о том, что именно ему доверял ересиарх, т. к., по его мнению, только ап. Павел «точно и правильно понял Христово учение и сохранил его в чистоте, а прочие апостолы — псевдоапостолы и проповедники иудейства, то есть лжеапостолы, потому что в Христово учение внесли элемент иудейства» [Троицкий, 2004, 174]. Церковь, по мнению Маркиона, исказила учение Христа, т. к. привнесла в него элементы иудейства, поэтому ее необходимо реформировать. Маркион мыслил себя церковным реформатором16.
По мнению М. П. Морева, именно «трагические последствия восстания Бар-Кохбы существенно повлияли на окончательное формирование антипатии Маркиона к ветхозаветному Богу-Творцу и его выбор в пользу несоединения Ветхого Завета и Евангелия» [Морев, 2002, 11].
Заслуживает внимания мнение С. Молля, который отмечает роль Маркиона как катализатора процесса формирования единого канона Священных книг Церковью: «В годы, прошедшие после основания своей общины, Маркион производит первый христианский канон, в смысле первой авторитетной коллекции христианских книг. Он, конечно, не был первым христианином, считавшим определенные тексты авторитетными, но он был первым, кто ограничил количество этих текстов… он принимает тот же сборник текстов Ветхого Завета, что и Церковь, но что касается Нового Завета, он ограничивает свое собрание Евангелием от Луки и десятью Посланиями ап. Павла, причем все тексты полностью освобождаются от любых положительных ссылок на Ветхий Завет. Хотя создание этого канона может считаться новаторским актом, следует усомниться в том, придавал ли он себе такое же значение, как это делают современные ученые» [Moll, 2010, 285]. Однако же основным объединяющим началом для Маркиона и его последователей был не канон17 книг, а именно идея противостояния злого и доброго Бога18.
Приведем некоторые примеры обращения Маркиона с новозаветными текста-ми19. «Известное изречение Христа (см. Мф 5:17) читалось в таком искаженном виде: „Я пришел разорить закон, а не исполнить его“. Затем в обращении Христа в молитве к Богу (см. Лк 10:21) читается у Маркиона: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба“ (с опущением слова „и земли“ потому, что землю он не считал творением верховного Бога). Затем Христа обвиняют перед Пилатом (см. Лк 23:2) с таким дополнением: „Мы нашли, что он развращает народ, разоряет закон и пророков, отвращает жен и детей“» [Болотов, 2011, 382].
Таким образом, «созданный Маркионом искусственный образ евангельского Христа был лишен почти всех черт земного человека, арамейскоязычного уроженца Галилеи. Он сошел с небес в 15-м году правления императора Тиберия в Капернауме. То было началом его земной миссии, проповеди Евангелия и спасения людей. Маркион считал ее совершенно новым явлением религиозного плана. Пришествие Христа в мир не было никем и никогда подготовлено. Маркионов Христос не имел человеческого тела, только его видимость; в этом выразился докетизм понтийца…» [Морев, 2002, 12].
3. маркион и современность
Несмотря на, казалось бы, ясное видение основных обстоятельств жизни Марки-она и на наличие основных сведений о его богословских взглядах, личность этого человека, его жизненный путь являются предметом изучения ряда современных исследователей. Стоит отметить, что не всегда их выводы совпадают с общепринятой позицией, основные положения которой были изложены выше. Ряд современных исследователей подвергает сомнению важнейшие вехи биографии и учения Маркиона, известные нам от святых отцов и церковных писателей II–III вв.
Так, Епифаний Кипрский говорит о Маркионе как о человеке, который практиковал безбрачие, но в итоге соблазнился связью с девственницей, за что и был отлучен своим отцом, Синопским епископом, от Церкви. П. Фостер видит в этих обвинениях метафору, в которой под девственницей следует понимать Церковь — невесту Христову. Фостер называет это «герменевтикой подозрительности» и считает данные обвинения клеветой или метафорой, и полностью убежден в том, что они являются поздним по отношению к периоду жизни Маркиона изобретением20.
Выдумкой для Фостера является и указание на епископский сан отца Маркио-на21, которая служит цели еще более очернить последнего, не оставляя ему никакого оправдания «за его отклонение от „православной“ веры» [Foster, 2010, 270]. Ссылаясь на ряд современных исследований, Фостер пишет о том, что просто невозможно проверить факт исторический встречи Поликарпа Смирнского и Маркиона22, хотя свидетельства об этой встрече мы находим у святого Иринея Лионского [Ириней Лионский, 2010, 224].
Фостер говорит и о том, что у ряда современных исследователей есть сомнения по поводу того, существовало ли вообще Евангелие от Луки в том виде, в котором мы его знаем, во время жизни Маркиона и не послужил ли текст Маркиона основой для создания этого Евангелия [Foster, 2010, 275]. Так, Дж. Нокс, один из исследователей истории формирования новозаветного канона, считал, что источником Евангелия от Луки и Евангелия Маркиона был текст, который можно условно назвать „прото-Лу-ка“. В связи с этим Нокс утверждал, что нет достаточных доказательств существования книги Деяний и Евангелия от Луки в нынешнем виде до середины II в. и что само
Евангелие от Луки, книга Деяний и Пастырские Послания были ответом на угрозу, которую представлял Маркион [Foster, 2010, 275].
Стоит отметить, что такие мнения встречаются не часто. Тот же Фостер отмечает, что «лучше всего руководствоваться единым свидетельством ранних христианских писателей на эту тему. Это означало бы, что Евангелие Луки уже существовало в то время, когда Маркион создал свой собственный текст Евангелия. Поэтому текст Маркиона был сокращением формы третьего известного ему Евангелия» [Foster, 2010, 276].
Для такого современного исследователя жизни Маркиона, как М. П. Морев, вполне очевиден факт, что раннехристианская Церковь хоть и нашла весомые доводы против богословских утверждений Маркиона, все же сама взяла на вооружение его отношение к своему духовному наследию, но, в отличие от него, — признав факт исполнения ветхозаветных пророчеств в личности Иисуса Христа. Если антииудаизм Маркиона был направлен только против ветхозаветного Бога-Творца как национального Бога иудейского народа, то в христианской Церкви изначально, начиная с конца I в., утвердилась антипатия к иудеям как к народу, обвинявшемуся в «богоубийстве» [Морев, 2002, 3]. Приведем еще один пример подобных рассуждений: «В то же время выбор Церкви в лице ее апологетов II–III вв. в пользу объединения в новый канон книг Ветхого Завета и Евангелий (четырех вместо одного у Маркиона!), а также писем апостола Павла и других раннехристианских произведений, обозначил для христианства иной путь развития, который привел его к антииудаизму в Средние века и к антисемитизму в Новое время» [Морев, 2002, 5].
Для М. П. Морева очевидно, что «у раннего христианства был исторический шанс стать вполне самостоятельной религией, без связи с ветхозаветным наследием. И такой шанс был предоставлен ему Маркионом» [Морев, 2002, 4].
Стоит отметить, что именно Адольфу Гарнаку принадлежит значительная роль в «воссоздании образа Маркиона и его теологии» [Морев, 2002, 6–7]. В 1921 г. этот церковный историк опубликовал работу «Маркион: Евангелие Чужого Бога». Гарнак «превратил Маркиона из еретика в героя» [Moll, 2010, 281]. «Гарнак, очевидно, обожает Маркиона. На самом деле, он даже „влюблен“ в него»23.
По мнению С. Молля, эта субъективная симпатия Гарнака, его чрезмерный энтузиазм «формирует наше видение Маркиона до сегодняшнего дня». Гарнак изображает Маркиона первым реформатором, своеобразным Мартином Лютером II века. Немецкий церковный историк надеялся на то, что «в хаотичном хоре тех, кто ищет Бога, даже маркиониты могли быть снова найдены сегодня». По поводу данных надежд А. Гарнака С. Молль вполне справедливо задается следующим вопросом: «что вдруг превратило осужденного еретика второго века в христианский образец для подражания двадцатого века?» [Moll, 2010, 282].
Для ответа на этот вопрос важно отметить, что А. Гарнак был не только церковным историком, но и богословом [Moll, 2010, 282]. С. Молль приводит следующие слова А. Гарнака по поводу отношения христиан к Ветхому Завету: «отказ от Ветхого Завета во втором веке был ошибкой, которой великая Церковь справедливо избегала; сохранить его в шестнадцатом веке была судьба, от которой Реформация еще не могла уйти; но все же сохранять его в протестантизме как канонический документ с девятнадцатого века является следствием религиозного и церковного повреждения» [Moll, 2010, 282].
Таким образом, мы видим, что Гарнака сблизило с Маркионом именно критическое отношение к Ветхому Завету. «Гарнакова критика Ветхого Завета является критикой либерального немецкого теолога в начале двадцатого века. Она представляет собой очень распространенный среди людей современной эпохи дискомфорт, связанный с тем, как Бог изобража ется в Ветхом Завете. Для современных верующих
(отрицательные) антропоморфные черты ветхозаветного Бога кажутся действительно несовместимыми с их собственным представлением о Боге, именно поэтому Гарнак хотел видеть Ветхий Завет лишенным канонического статуса в христианской Церкви. Таким образом, у Гарнака было видение христианства, очищенного через избавление от неприятного балласта» [Moll, 2010, 282].
Рассматривая взгляды Гарнака на Маркиона и его учение, С. Молль находит, что они содержат предвзятые и неточные оценки. Во-первых, для Гарнака характерно приписывать Маркиону «разделение» Бога на «справедливого» и «благого». Однако же сам Маркион делает акцент на существовании злого и жестокого «бога», а не справедливого. Для Гарнака очевидным является основание богословия Марки-она на учении ап. Павла, и поэтому для немецкого историка различие между «справедливым» и «благим» Богом есть различие между законом и благодатью, о котором пишет ап. Павел. «Однако, поскольку мы обнаружили, что это различие отсутствует в системе мышления архиеретика, вывод также должен считаться ошибочным» [Moll, 2010, 285–286]. «Тем не менее, источники не оставляют сомнений в том, что Маркион придавал большое значение апостолу. Но, вместо того чтобы быть источником вдохновения для учения Маркиона, он был задним числом востребован Понтийцем, чтобы узаконить его движение. Конечно, Маркион в определенной степени перенял сотери-ологию ап. Павла и его критику Ветхого Завета, но апостол служил для него, прежде всего, „гарантом“ его теории фальсификации Евангелия» [Moll, 2010, 286].
Гарнак также утверждал, что Маркион считал Ветхий Завет устаревшим. Вот как это комментирует С. Молль: «В отличие от предыдущих концепций, которые можно объяснить неправильным толкованием доказательств, найденных в источниках, на этот раз это было простым желанием Гарнака… Он считал, что нашел образец для подражания для своей собственной богословской программы, направленной на исключение Ветхого Завета из христианской Библии, и таким образом проецировал эту программу на ересиарха» [Moll, 2010, 286]. «Контраст между этими двумя богами составляет самый центр богословия Маркиона. Гарнак осознал этот контраст между Ветхим и Новым Заветами в мышлении Маркиона, но он переосмыслил его в соответствии с Павло/лютеранским различием закона и благодати. Однако Марки-он не мыслит в таких абстрактных богословских терминах, он просто верит в двух разных богов» [Moll, 2010, 286].
Для Гарнака Маркион являлся протестантским реформатором, который опередил свое время. С такой точкой зрения не согласен С. Молль: «Гарнак видел в Маркионе человека, который верно определил неправильное развитие в Церкви своего времени, и человека, который храбро боролся с этой ситуацией, но трагически потерпел неудачу из-за ограниченности своих современников; короче говоря, он видел в нем гения, опередившего свое временя. Сегодня мы можем четко определить это как вводящую в заблуждение характеристику» [Moll, 2010, 286].
4. Заключение
Анализ жизни и богословского наследия Маркиона свидетельствует о том, что вопрос соотношения Ветхого и Нового Заветов актуален и по сей день. Правильное восприятие учения Господа Иисуса Христа невозможно в отрыве от значительной части Откровения — Ветхого Завета. В то же время правильность восприятия зависит и от следования традиции чтения и толкования Писания, каковой обладает основанная Христом Церковь.
Проделанная работа помогает сделать вывод о том, что установление неправильного баланса между Ветхим и Новым Заветами приводит к значительным искажениям апостольской и святоотеческой веры. Ярким примером несоблюдения этого баланса являются утверждения А. фон Гарнака о т. н. справедливом Боге Ветхого Завета и милосердном Боге Нового Завета. Таким образом, Маркионов дуализм переносится на противопоставление двух Заветов, что весьма субъективно.
Список литературы Маркион синопский и вопрос соотношения ветхого и нового заветов
- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Т. IV: Исторические книги (часть 1). Книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, первая и Вторая Книги Царств / Пер. с англ., греч., лат. и сир. под ред. Джона Р. Фрэнки / Русское издание под ред. Ю. Н. Ворзонина. Тверь: Герменевтика, 2009.
- Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви I-II. Введение в церковную историю. История Церкви в период до Константина Великого. 2-е изд. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011.
- Ианнуарий (Ивлиев), архим., Ткаченко А. А. Закон Моисеев // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XIX. С. 554-568.
- Ириней Лионский, св. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди / Пер. прот. П. Преображенского, Н. И. Сагарды. Изд. 2-е. исправ. СПб.: Олег Абышко, 2010.
- Леонардов Д. С. Теория богодухновенности в александрийской школе. Теория Оригена // Вера и разум. 1907. № 5. C. 583-600.
- Морев М. П. Маркион из Синопы: первый реформатор христианства. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Саратов, 2002.
- Писарев Л. И. Очерки из истории христианского вероучения патристического периода. Век мужей апостольских (I и начало II в.). СПб.: Олег Абышко, 2009.
- Поснов М. Э. Гностицизм и борьба Церкви с ним во II веке. Киев, 1912.
- Пономарев А. В. Гностицизм // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. XI. С. 628-637.
- Райт К. Познавая Иисуса через Ветхий Завет. СПб.: Мирт, 2010.
- Foster P. Marcion: His life, works, beliefs, and impact // The Expository Times. 2010. Vol. 121. № 6. P. 269-280.
- Moll S. Marcion: A New Perspective on his Life, Theology, and Impact // The Expository Times. 2010. Vol. 121(6). P. 281-286.