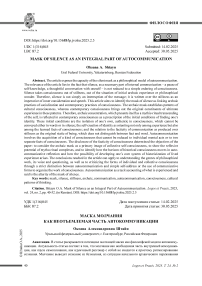Маска молчания как неотъемлемая часть автокоммуникации
Автор: Штайн О.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается потенциал молчащей маски как философской модели автокоммуникации. Актуальность статьи состоит в том, что молчание как необходимая часть внутренней коммуникации, как пауза самопознания, как вдумчивый разговор с собой не сводится к простому ритмизированию сознания. Молчание выводит сознание из безмолвия, из ситуации начального архаического переживания или философского удивления. Поэтому молчание не есть просто перерыв сообщения, оно пишется поверх безмолвия как императив внутреннего рассмотрения и речи. Цель статьи – выявить маску молчания как связывающую архаические практики социализации и современные практики сознания. Архаическая маска создаёт паттерны культурного сознания, тогда как современное сознание раскрывает исходные составляющие предельного опыта в этих паттернах. Поэтому архаическая концентрация, предъявляющая себя как мифоритуальный выход за пределы себя, отражается в современном сознании как прописывание исходных условий обретения своей идентичности. Эти исходные условия включают: вычленение собственного, аутентичного в сознании, что нельзя передать ни словом, ни молчанием; самосоздание идентичности как ориентирующей не только среди опыта, но и среди усвоенных фактов сознания; отношение к фактичности коммуникации как произведенной поверх безмолвия как изначальной статичности бытия, не различающей между фактом и словом. Автокоммуникация – это обретение той фактичности сознания, которая не сводится ни к отдельным данным по умолчанию актам сознания, ни к отдельным фактам сознания. Раскрытие фактичности сознания определило задачи работы: рассмотрение архаической маски как первообраза коллективного самосознания, раскрытие рефлексивного потенциала мифоритуальных комплексов, выявление того, как в автокоммуникативной рефлексии перемещается горизонт исторического сознания и возникает возможность создания собственной системы историзации пережитого. Полученные в статье выводы могут быть применены для понимания жанров философской работы, ее голоса и вопрошания, а также для критики форм индивидуального и коллективного сознания через строгое отличение автокоммуникации от простого обращения к себе или использования коммуникативных форм для организации работы сознания. Автокоммуникация как молчаливый учет пережитого и сказанного – инобытие маски молчания.
Маска, молчание, безмолвие, архаика, коммуникация, автокоммуникация, сознание, культурные паттерны мышления
Короткий адрес: https://sciup.org/149149469
IDR: 149149469 | УДК: 1(316)045 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.5
Текст научной статьи Маска молчания как неотъемлемая часть автокоммуникации
DOI:
Цитирование. Штайн О. А. Маска молчания как неотъемлемая часть автокоммуникации // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 40–52. – DOI:
Загадкой остается поэтическое слово такого рода, чей сказ давно уже возвратился в молчание.
М. Хайдеггер
Актуальность исследования вытекает из необходимости развития теории автокоммуникации в социальной философии. Молчание как необходимая часть внутренней коммуникации, как пауза самопознания, как вдумчивый разговор с собой не сводится к простому регулирующему упорядочиванию сознания. Автокоммуникация как обращение к себе включает в себя не только высказывание, но и молчание, это часть индивидуального сознания. Молчание выводит сознание из безмолвия, из ситуации первичного архаического переживания или философского удивления. Поэтому молчание не есть просто прерывание сообщения, оно пишется поверх безмолвия как императив внутреннего усмотрения и речи .
Молчание – процесс формирования сознания и совести, базовое условие автоком-муницирования, а безмолвие, безмолвствование – коллективный вызов, покоящийся на исторических и мифологических основаниях. Безмолвие можно обнаружить во многих архаических культах, в том числе в шаманском камлании. Безмолвствование ритуально поддержанное – встраивание в чужую автокоммуникацию. Ярким примером служат первобытные паттерны поведения, когда безмолвие настолько вызывающе, что заставляет участников ритуалов надеть маску, которая молчит за них.
Безмолвие – осознанный поступок, действие, вызывающее ответную реакцию (ответы сакральных сил или политических противников). Молчание – это право наравне с правом высказывания, которое осуществляет индивид, безмолвие – процесс коллективного волеизъявления и коллективного действия. Совершая обряды, племена создают действительность и пространство сакрального безмолвия, храня за щитом маски индивидуальный голос (вспомним употребляемое в языке он «хранит молчание» или «вы имеете право хранить молчание» в правиле Миранды, но в наши дни хранящие молчание «безмолвствуют лукаво»).
В архаике молчания как осознанной автокоммуникации еще не было, было безмолвие шаманизма как средство вызова сакральных сил, привлечения чужого голоса, обретения ответа, захвата внимания. Безмолвие шамана помогало встроиться в сакральную автокоммуникацию. За маской пряталось лицо, взгляд осуществлялся тайком, через подсматривание, за маской таился собственный голос. Участники ритуалов во всеобщем безмолвии подслушивали голоса высших сил, обретая себя.
В современных исследованиях появилось понятие молчащей маски как медикалист-ское, означающее один из интерфейсов сур-дообщения. Особое внимание такой маске уделяется в японской культуре и технологии [Igarashi, Futami, Murao 2024], что можно объяснить культурной японской традицией изображения лица как повышенно информативного. Молчащая маска рассматривается исследователями либо с точки зрения молчаливого изготовления ее самим перформером в ряде архаических культур, когда через нее молчат начальные условия перформанса [van Beek 2022], либо с точки зрения особой темной агентности шамана, где не столько ритуальные действия шамана, сколько маска размечает дальнейший успех действия, символическое разрешение ситуации [Zorbas 2024]. Показательна недавняя дискуссия о сибирском шаманизме [Hall 2022]: следует ли понимать молчащую маску как проводника сил или как резонантный медиум. Очевидно, что на этот вопрос отвечает не антропология, а философия, в которой понятия событие и ситуация не сводятся к частностям быта. Можно попутно заметить, что тяжелое дыхание кинематографического Дарта Вейдера – как раз попытка осмыслить эту странную природу молчащей маски, которая выступает одновременно и как проводник злодейского замысла этого персонажа, и как резонатор его архаической природы.
Наиболее перспективным в антропологии оказывается рассмотрение маски как средоточия ритуальной жизни племени, перекликающегося с тишиной и ночью, благодаря чему можно не только организовывать социальную жизнь, но и вовремя переключать внимание племени на наказание преступников или сатирическое отношение к себе [Okoye 2021]. Тогда молчащая маска оборачивается экстатическим медиумом трансгрессивных решений племени и одновременно спокойным медиумом многозадачности, хотя ее природа при этом не проблематизируется философски.
Мы в философском анализе природы молчащей маски исходим не из отдельных актов молчания, но из реконструкции природы события средствами современной философии.
В академической истории философии и общенаучной методологии до середины ХХ в. (до развития критической эпистемологии) нормой было признание основной роли языка и знака в человеческой рациональности. Только язык как система самодостаточных знаний, с точки зрения лингвистики и семиотики, в силах «обслуживать» рациональное знание. Познавательная деятельность вершится вербально, не принимая в расчет иных средств человеческой выразительности и поступающей от них информации. Визуальные, аудиаль-ные, тактильные, обонятельные, интуитивные каналы познания и поступления информации именовались в парадигме классической рациональности как «невербальные», указывая на первичность вербальной коммуникации.
Цель статьи – выявить маску молчания как связывающую архаические практики социализации и современные практики сознания. Архаическая маска создает паттерны культурного сознания, тогда как современное сознание раскрывает исходные составляющие предельного опыта через эти паттерны.
Социальные дискурсы устроены как последовательность знаков и реакций на них. Поэтому можно сказать, что эти дискурсы – характерные совокупности знаков, взятые как отраженные в личном поведении индивида в обществе. Они не просто задают границы манифестации индивида, они как бы оказываются прописаны в его лице, тогда как взгляд этого лица на другого стремится вернуть личное действие в область устойчиво принимаемых решений. Но значимый другой как адресат тоже воспринимает не только взгляд. Он прочитывает высказывания адресанта как отражения или слепки своего собственного поведения. Внешность адресанта он воспринимает как подтверждение своей, а не чужой точки зрения. В результате оба участника коммуникации совпадают в том, что воспринимаются друг другом в соответствии с заранее признанной социальной ролью. Социальные дискурсы расчерчивают место для каждого в социальной реальности, и это место оказывается непроницаемым. Индивид осуществ- ляется в системе связей, имен, шаблонов и освоенных стратегий. Личное тогда оказывается не только по ту сторону привычного поведения, но и по ту сторону привычного дискурсивного осуществления.
Архаическая концентрация, предъявляющая себя как мифоритуальный выход за пределы себя, отражается в современном сознании как прописывание исходных условий обретения своей собственной идентичности. Эти исходные условия включают: вычленение собственного, аутентичного в сознании, не передаваемого ни словом, ни молчанием; формирование самоидентичности как ориентирующей лицо не только в области опыта, но и в области усвоенных фактов сознания; отношение к фактичности коммуникации как произведенной поверх безмолвия, признанного в качестве изначальной статичности бытия, не различающей между фактом и словом.
Автокоммуникация – это обретение той фактичности сознания, которая не сводится ни к отдельным данным по умолчанию актам сознания, ни к единичным фактам сознания. Раскрытие фактичности сознания определило задачи работы: рассмотрение архаической маски как первообраза коллективного самосознания, раскрытие рефлексивного потенциала мифоритуальных комплексов, выявление того, как в автокоммуникативной рефлексии перемещается горизонт исторического сознания и открывается возможность создания собственной системы исто-ризации пережитого.
Задачи определили методы исследования: систематическую интерпретацию фактов сознания в свете опытов активного выражения глубинного сознания от архаического ритуала до современных практик себя как императивных; критическое рассмотрение границ опыта как заданных паттернами коллективного сознания; интроспекцию, разоблачающую масочную сторону автокоммуникации.
Невербальные и вербальные аспекты коммуникации [Бушмакина 2009] устанавливают три аспекта своего социального осуществления: 1) массовая информация и коммуникация, где социальные институты задают пределы обмена информацией и принятия информации к сведению, 2) межиндивидуальная коммуникация (Я–Другой) и 3) автокоммуникация (Я–Я). В первом случае пределы не могут быть преодолены; во втором случае другой оказывается точкой, где предел пробивается, открывается намерение и мысль другого; в третьем случае Я как Другой обретает свою мысль как руководство к действию. В результате любого об(ра)щения: Я–соци-альный институт, Я–Другой или Я–Я, складывается коммуникативное пространство со своим распорядком границ и точек пересечения – пространство молвного и безмолвного (вербального и невербального). Граница публичного высказывания оказывается точкой пересечения безмолвной мысли, и только автокоммуникация может сделать это пересечение частью поступка.
Безмолвное пространство социально по своей природе, в качестве границы оно удерживает щит, условную или прямую маску, разделяя публичную / приватную сферы. Молчание – это часть сознания, безмолвие – это вызов, начиная с шаманизма и архаических ритуальных практик. Молчание – способ форматирования сознания, основа автокоммуникации, а безмолвие – способ обретения в своей мысли чужой автокоммуникации, основа публичной социальной коммуникации.
Онтология молчащей маски
Молчание – это одно из онтологических условий «быть в маске». Коммуницировать с Другими люди научились постепенно, начав с архаического опыта коммуникации с высши- ми силами. Коммуницировать с сакральными силами – значит убеждаться коллективно в значимости актуального исторического бытия. В древних космогониях все актуальное налицо, а коммуникация как встреча с божеством, то есть начало различия, от-личия, требует использования масок.
Маска – безмолвное олицетворение, невербально предъявленное изображение, связанное с тайной. Тайна – это образ образа , граница, за которой мы вскрываем другую границу, а не интенциональный предмет. Поэтому кроме вещей, которые сходятся со словами, говорят сами за себя, есть тайна, которая сама узнала свою границу и узнается, узнаваема только в этом своем полном дохож-дении до границы как до упора. Тайна часто лишает нас слов, сверхъестественное не знает привычного словаря, артикулирования. Священное как одно из проявлений тайны непостижимо в своей запретной сущности, неизреченности, неизглаголанности. О.М. Фрейден-берг начало истории человечества назвала «детством» [Фрейденберг 1978, 15]. Ритуальная маска манифестирует себя, обращаясь к сакральным силам, испытывая страх и трепет перед ними, ощущая собственную уязвимость. Последняя заставляет использовать прикрытие-маску, которая в прямом смысле держит рот на замке, защищает. Маска по самой своей граничности, конфигурации поверхности вообще не подразумевала использования слов. Она «безмолвствует лукаво». На месте рта в маске обычно делалась прорезь, позволяющая человеку видеть, оставаясь скрытым – своеобразное «подглядывание» из-за маски. Человек в маске подглядывал, прячась за фактурой, он пытался похитить увиденное взглядом, не проронив ни слова, так как голос – это уже заявление о присутствии. Голос может выдать и погубить.
Архаический человек растворялся в пейзаже, прося благословения сакральных сил на собственное безопасное присутствие. Поэтому маска-степь или маска-сова помогали слиться с единой природой. Человек еще не персонифицирован и не выделен как отдельно значимое, наделенное авторитетом или репутацией, запятнанное или высокое лицо; он онтологически мимикрирует, не имея и не выдавая своего голоса. Все, что он может со- брать и при-своить себе – это увиденное, взглядом захваченное. Все, что он может знать, – это услышанное или даже подслушанное в обращении «особых голосов».
«У захвата, – утверждает В.В. Бибихин, – древнее лицо» [Бибихин 2001, 96]: захват исторически связан с хитростью, хищением и происходит украдкой, украдывая не только время и вещь, но и взгляд, деформируя не только социальные отношения, но и саму направленность взгляда. Захват буквально не знает отношений, он не соотносится с не-зах-ваченным или захваченностью, которую открыла только философия как удивление , и не относится к какому-то роду или виду и поэтому не может отнести взгляд дальше, но только присвоить видимое. Архаическая маска прячет взгляд. Человек в маске не смотрит, а подсматривает. Там, где должны быть глаза, в масках присутствуют вогнутые или выпуклые пустые глазницы («черные дыры субъективности», по Ж. Делёзу и Ф. Гваттари, а также согласно интерпретации В. Подороги [Штайн 2013, 16]). В погребальных урнах Этрурии IV в. до н. э. глазницы и рот масок зияют пустотой, как и античные терракотовые пластины с черными глазницами масок раба, слуги, сатира или пана.
Мы помним, что герои Эллады вынуждены были избегать гибельного взгляда гор-гоны Медузы, захватчицы, хватающей и тем самым сразу умерщвляющей. Изобретенный Персеем зеркальный щит позволил хищный взгляд Медузы сделать хищением, восхищением, экстазом, который лишает привычек всё присваивать себе, но лишает и движения, потому что Медуза не знала никаких других движений, кроме захватнических. В архаических ритуальных действиях таким зеркальным щитом служили маски, благодаря которым человек уклонялся от захваченности духами и захваченно (экстатически) общался с высшими силами, оставаясь прикрытым, в соответствии с прикрытостью божеств. Этот ответ, прикрывающий, стыдливый, и образовал мысль о сакральном как продолжение ритуалов, ритуал стал мыслящей себя мыслью, стыдящим себя стыдом. Человек в маске подсматривает, но не смотрит напрямую в глаза высших или опасных сил. Человек в маске молчит и задает вопросы, боясь про- пустить ответы в атмосфере коллективного безмолвия и тишины.
Архаическая маска и безмолвие
Архаический человек не вступает в открытый диалог с высшими силами, он по своей природе мал и априори проиграет или разозлит их. Вспомним образ сирен. Гомер в «Одиссее» рассказывает о том, что главный герой, проплывая между скалой Сциллы и островом Цирцеи, залил уши своей команды воском, а себя велел привязать к мачте. Сирены губили, уносили в пучину, топили своих жертв так же, как русалки в славянской мифологии или ундины в скандинавской. Не только видеть, но и слышать потусторонние силы было опасно для мифологического («имажинарно-го», по терминологии О.М. Фрейденберг [Фрейденберг 1963]), человека, если только он не был посвященным (как, например, Пифия). Настаивая на субъект-объектном единстве человека и мира в архаике, Фрейденберг говорит о конкретном переживании собственной судьбы древним человеком как объективной и субъективной, космической и личной одновременно, что требовало особых техник работы со своими мыслями и чужими голосами [Фрейденберг 1963, 28].
В древнегреческом пантеоне богом молчания является Гарпократ. Изображение младенца с приложенным к губам пальцем принято истолковывать как знак молчания или призыв к молчанию. Гарпократ – это греческое истолкование египетского бога Гар-пехрути, сына Изиды и Осириса. Он изображался в виде голого ребенка с пальцем у рта.
Функция рта в архаических масках и преданиях не сводилась к произнесению слов. Лицо, как и персона, не было сформировано. Оно было разъединено, о чем свидетельствует сказка африканского народа гурманче: «Когда рот умер, у других частей тела спросили, которая из них возьмется за погребение» [Штайн 2013, 19]. Разъединенность и разнородность органов, первоначально существовавшие как хаотичная конъюнкция, постепенно обретали функциональное единство в процессе взаимодействия с Другим – например, в ритуале погребения, где маска служила инструментом символического преображения.
Маска сохраняла сходство с лицом, но воспринималась окружающими как другое лицо, наделенное сакральными свойствами и силой. Если человек не мог напрямую предъявлять свое лицо и свой голос, он начинал это делать посредством выдуманного лица-маски. Лицо как феномен не могло возникнуть в эпоху неразличения или безразличия инструментальных самопредъявлений бытия, поэтому органы перемешивались в единую колоду и тасовались, так что неизбежен был вопрос, кто же будет хоронить рот? Далее мы изложим на основе трудов Т.И. Борко [Борко 2004] и Т.В. Волдиной [Волдина 2016] особенности полагания границы безмолвия в архаике и актуализируем затем смысл этого полагания.
Примером разрозненности древней картины мира является представление иткульс-ких металлургов (VII–III вв. до н. э.). Картина мира была трехчастной. Медный антропоморфный идол, найденный на литейной площадке горной станции Исеть, иллюстрирует это. Верхний мир, в котором обитало высшее божество – солнце, – представлен солнечной короной над головой. Средний мир – земля, на которой живут люди и звери, – символизирован пятиполосным поясом, окрутившим идола. Нижний мир – подземный или подводный, куда уходят души умерших, – обозначен фигурой волка сбоку: по представлениям древних угров, волк переносит души умерших в подземный мир. На литейных площадках встречались фигурки хищных птиц с раскрытыми крыльями. Иткульские металлурги поклонялись птицевидным идолам, приносящим солнечный огонь для задувки горна. Это говорит о том, что соотношение трех миров понималось динамически: мировой огонь может быть усилен или ослаблен – то есть временно скрыт, замаскирован, но не уничтожен окончательно. Огонь – это лицо жизни, метафора развития (вспомним Огонь Гераклита как диалектику жизни). Олицетворение жизни предъявлялось через тотемические маски.
Многие исследователи homo neandertalis считают, что уже 35 тысячелетий назад стоянки неандертальцев включали сакральный топос – святилища. Шаманизм как одно из распространенных верований оставил множество артефактов, ставших археологическими находками. Например, обнаружение обода бубна шамана интерпретировалось как знак его смерти именно здесь: ведь при жизни шаман говорил лишь голосом бубна, а теперь этот голос умолк навсегда. Шаман – посредник, не имеющий собственного голоса, проводник сакральной речи. Бубен был маской и голосом шамана, посредством которого он говорил не своим голосом и за которым он прятался в индивидуальном молчании.
Шаман взывал к сакральным силам через бубен, говорил бубном, лечил им. Бубен шаман изготавливал сам, и этот тонкий интимный процесс напоминал рождение. Считается, что первый бубен был изготовлен из ветки Древа Жизни. Для обруча на священном месте брали древесину березы, лиственницы или ели, после обруч обкладывали сырой шкурой оленя, лося, собаки или кожей налима; высохнув, она вплотную обтягивала обруч. В путешествиях между мирами живых и мертвых бубен представал в качестве лодки, оленя или птицы, на которых душа шамана перемещается в другой мир. Колотушка служила веслом либо хореем – шестом, чтобы погонять оленей, рыб или птиц. Такие весла были по виду плоскими, вытянутыми лопатками длиной около 40 см, обтянутыми оленьим или заячьим мехом.
Бубен – голос шамана, который молчит. Шамана как личности и как социальной единицы не существует. Он – материальный медиум, бубном призывающий добрых духов и изгоняющий злых. В архаике молчания в качестве осознанной автокоммуникации еще не было, но было безмолвие шаманизма в качестве формы вызова сакральных сил, чужого голоса, обретенного ответа, внимания. Безмолвие шамана помогало коллективу встроиться в сакральную автокоммуникацию. За маской пряталось лицо, взгляд осуществлялся через подсматривание. За маской прятался собственный голос, таясь в безмолвии, участники ритуалов подслушивали голос высших сил, обретая собственный. Вспомним «Познай самого себя» в Дельфах (то есть, по интерпретации А.В. Маркова, говори только о своем и молчи только о своем, не тревожь бога чужим, не исповедуйся в чужих грехах [Марков 2021]) и несвязную речь оракулов, воспроизводящую услышанное у божественных духов.
Перед началом камлания шаман облачался в обрядовую одежду и начинал разговаривать с бубном. Он бил его по мембране, поднимая ото сна или (что то же) пробуждая дух тотема в его утробе. Когда дух просыпался, шаман садился верхом на него и отправлялся в другой мир. Во время обряда он миметически изображал, как он летит к небесному богу, спускается в нижний мир, борется со злыми духами. Это визуализация мифов, сказок и легенд своего народа. Обряды требовали хорового пения всех собравшихся под удары колотушки в бубен. Мы не можем не вспомнить древнегреческий хор, повествующий о происходящем на театральной сцене, поддерживающий нарративом безмолвную катастрофу трагедии. Актеры в масках индивидуального голоса не имели, но только голос мифа как истории. Шаману не нужно было сцены, он не нарратор, а путешественник. Он мог камлать в любом месте – на улице, на берегу, в доме, но чаще для него отводился «черный дом» или «закрытый чум», где собирались обитатели окрестных селений. В течение жизни у шамана в зависимости от традиции было от семи до девяти бубнов. Когда рвался последний бубен, силы шамана истощались. Вскоре шаман умирал, а бубен оставался; но без хозяина он больше не пел и не говорил. Наступало сакральное молчание.
Как показывают материалы коллекции И.П. Лаврова (1939–1940 гг.) [Щербакова 2021], культура Чукотки глубоко пронизана шаманизмом. Лавров повествует об инициации шамана: символически он умирает, тело его расчленяют. Вот она, разобщенность и разъединенность органов тела, которую нужно вернуть единому коллективному телу, а до этой поры оно напоминает «тело без органов».
Шаманизм был распространен не только на севере, но и на юге. Маски тайного общества Коре (Мали, Африка), представляли 8 зооморфных разновидностей, участвующих в обрядах вызывания дождя. Носитель масок был главой религиозного общества, обладающим «предметами силы» – масками из рогов, костей, когтей, облитых кровью жертвенных животных. Дух Комо – покровитель растений, был подвластен носителю масок. Такой африканский шаман для защиты от злых духов тоже применял бубен, жезлы, маски.
С помощью бубна и находясь в маске, шаман вызывал дух, на котором передвигался: дух коня, птицы. Духов-помощников он называл «особыми голосами». Сам шаман голоса не имел, он транслировал «особый голос», вызванный к вожделеющим ответа. Безмолвствовали и участники ритуала, они обязаны были благодарить, пряча свою малую природу за масками. Любое обращение к высшим силам происходило посредством масок.
Ритуальное молчание от архаики к современности
Маска была предназначена не только для лица человека, но и для всей жизни, повернутой лицом к исполнителям ритуала. Архаический человек еще не обладал сформированным резервом совести, поэтому в его случае не наблюдается осознанного обращения к себе как к участнику автокоммуникации. Безмолвие шамана было вызовом, вопрошанием заданного ответа, но чтобы сокрыть дерзость, он укрывался. Это напоминает коллективные жертвоприношения, о которых писал Р. Жирар, исполнителем насилия в которых был палач в маске. Маска помогала выстроить дистанцию, совершить отчуждение отдельно взятого исполнителя от социально навязанной функции и воли быть проводником насилия. Маска сохраняла не только дистанцию, но и берегла исполнителя от возмездия. Совершался коллективный акт, и посредством маски палач манифестировал коллективное лицо. Свое индивидуальное лицо, как и голос, он прятал за маской – подобно тому, как за зеркальным щитом прятал лицо и жизнь мифологический герой.
Маски согонинкун или чвара употребляются в земледельческих церемониях, предшествующих началу работ на общественном поле (народ бамбара, Африка, Республика Мали, район Бугуни). Маска хранила молчание, и «особый голос», вызванный шаманом, не воспроизводил человеческую речь. Это был внутренний голос, обращенный к высшим силам, но не к соплеменникам. Парадокс диалога с сакральными силами (ведь был вопрос-ответ) заключается в том, что он часто проходил как монолог. Вспомним, что под диалогом М. Бахтин подразумевает выход за свои пределы, карнавальное переворачивание, обходящее скандал. Следовательно, в диалогизме есть монологизм, как обход скандала или умалчивание о нем. Молчание выступает механизмом онтологического обоснования, снимая «скандальность» бытия. Предметность тогда обосновывает и учреждает себя в бытии как частичное ограничение скандала.
В мистериях Цам (монг. «цам» или тибет. «чам» – ритуальные танцы) в цикле новогодних обрядов происходят цамы-пантоми-мы и цамы-диалоги. Маски, использующиеся в мистериях, делались из папье-маше или из дерева. Цам начинались после чтения молитв Владыке подземного царства Яма, отличительным признаком которого была бычья голова. Согласно легенде, отшельник медитировал в пещере. В канун его просветления в пещеру ворвались разбойники и убили его. Убитый отшельник приставил к себе голову быка и обернулся страшным демоном Бод-хисатва Менджушри в образе гневного Ямы. Разыгрываемая пантомима о его жизни предполагает молчание и сохранение тишины во время обращения к сакральному как со стороны персонажа в маске, так и со стороны реципиентов – участников мистерии. Молчание связано с отдельно взятым участником, в то время как безмолвие воспроизводит персонаж с бычьей головой в качестве коллективного волеизъявления. Именно он совершает коллективное действие, создает атмосферу и пространство сакрального безмолвия, сберегая за бычьей головой индивидуальный голос.
Двор монастыря, на территории которого совершаются новогодние мистерии, расчерчивается кругами и линиями, обозначая места и порядок передвижения персонажей в масках. Он – расчерченный топос, предполагающий рас-положение в пространстве смысла.
Topos и tropos – это определение пространственной статики и динамики. Топос чаще всего фиксирует точку остановки, а тро-пос – линию движения, передвижения, troposом может быть tropa лесная или tropa стихотворная. Лесная тропа и стихотворная тропа (троп, букв. «поворот») связаны с сакральным молчанием. «Загадкой остается поэтическое слово такого рода, – писал М. Хайдеггер, – чей сказ давно уже возвратился в молчание» [Хайдеггер 1993, 302]. М. Хайдеггер онтологически связывает бытие и слово, вещь и слово. Он разбирает стихотворение Гельдерлина «Слово»: «Не быть вещам, где слова нет». Хайдеггер рассуждает: отсутствие есть знак собственной катастрофы, лакуна не в тексте, а в самих условиях бытия знака, обрыв не просто сообщения, но общения и самих условий общения. Оборвать нечто значит что-то отнять, чего-то лишить, сделать бытие лишенцем, оборвышем. Лишение чего-то – всегда нехватка, а где не хватает слова, там нет вещи, вещь не может появиться оборванцем перед всеми. Она должна быть снабжена бытием как таковым, а не отдельными условиями или условностями бытия, которые мы принимаем за вещи: «Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием» [Хайдеггер 1993, 303].
С высказыванием, как было уже сказано выше, связан любой тип социальной коммуникации: Я–Другой, Я–социальный институт, Я–Я (автокоммуникация). Высказывание – раскрытие, извещение о чем-то, дарение вестей, вещание, приоткрывание, показывание. Показать – казать, как и с-казать, значит говорить. Показать, явить смысл – выставить, выдать (вы-дать). Через вы-с-казывание мы познаем. По-знать значит из-ведать: изведал тот, кто у-видел, заметил, и, более того, больше не потеряет из виду у-виденное. Отказаться видеть – это тоже нравственный выбор: отказ, отказаться – значит оставить притязания на что-то. М. Хайдеггер вспоминает Гельдерлина: «Так я скорбя познал запрет: Не быть вещам где слова нет» [Хайдеггер 1993, 303].
«Познанный запрет, – пишет Хайдеггер, – не голое отречение от притязания, но превращение речи в почти потаенно журчащий песенный отголосок несказанного сказа» [Хайдеггер 1993, 308]. Слово и есть у-слов-ие вещи, у-слов-ность мира, окружающего нас. Молчание – тоже вы-сказ-ывание , топос – хранение памяти: «Как отказ себе зарок остается речью» [Хайдеггер 1993, 307], это речь другого тона, как говорит Хайдеггер, другого «мелоса», она по-другому звучит. Познающий всегда находится в движении, он стремится по стезе знаний, по-стигать (постижение и есть из-ведывание, научение).
Язык – всегда язык бытия. Бытие говорит через меня посредством языка: «Не я говорю на языке, но меня проговаривает язык. Язык предшествует человеку и даже учреждает его как такового», – говорит У. Эко [Эко 1998, 15]. В коммуникации участвует человек, и тогда речь идет не о мире сигнала, а о мире смысла. Процесс означивания оборачивается реализацией возможностей знаковой системы. Мегабайты обрушивающейся на человека информации, которые адресат-получатель должен наполнить значением, говорят, что сама знаковая система уже необозрима, поэтому она предстает как облако социального, как некоторая социальная реальность, которую человек пассивно принимает. Вопрос об основе устройства социальной коммуникации любого вида тогда может быть сведен к пониманию социальной реальности в ее тождестве с коммуникацией. Реальность как целое в таком случае раскрывает себя в структурах самопонимания семиотической реальности; но информация оказывается не тождественна смыслу, выступая только как манифестация социальных отношений, а не как самораскрытие реальности, предшествующей социальным договоренностям.
Информации может быть много; она достигает порога, за которым не в силах передать содержание события. Существует предел сообщаемости сообщения, за которым оно остается только фикцией, неким призраком социального, пугающим своей безраз-мерностью.
Самая распространенная позиция социальной коммуникации – это опосредованное целесообразное взаимодействие двух субъектов. Социальная коммуникация – это феномен субъект-субъектых отношений разного уровня (институционализированных, аутообращенных и межличностных). Субъект-субъектные отношения о-предел-иваются информацией. Под информацией Клод Шеннон подразумевал обмен между двумя отдельными объектами, тогда как передача смысла предполагает участие субъектов, порождающих непредсказуемую информацию [Рогозина 2009]. Еще Клод Шеннон утверждал («Математическая теория связи», 1948), что передача информации эффективна при 1) исключении избыточности как порождающей двусмыслен- ности и 2) однозначном кодировании. Добавим, что только тогда общение возможно не только как содержательное, но как интерсубъективное: благодаря прямоте и однозначности сообщения оно воспринимается не как шум, а как целенаправленно отправленное другим субъектом. Поэтому мы можем сказать, что диалог в философском смысле Бубера и Бахтина возможен благодаря уточнению топики и семантики сообщений, то есть локализации передатчика и приемника информации для такой эффективной передачи, которая и есть аутопойесис знания.
Аутопойетический потенциал молчащей маски
При анализе коммуникативной реальности допустимо использование в качестве стержневого аргумента принципа аутопойезиса, который позволяет видеть коммуникацию как самодостаточный процесс: относительно замкнутую, автономную структуру, при этом трансцендируя субъекта за пределы изучаемой системы, но укрепляя его как часть самодостаточных и самообеспечивающих процессов. Аутопойетическая система У. Мату-рана и Ф. Варела [Матурана, Варела, 2001] подразумевает, что процесс самодостаточного самосоздания несет в себе весь внешний мир и на основе сигналов, поступающих из него, проецирует как любую текущую (наблюдаемую или верифицируемую) статику мысли собственную (выработанную в самосозда-нии) модель этого мира. Наблюдатель тогда должен отождествиться с субъектом, находящимся внутри аутопойезиса, осуществляя в каждом новом сигнале репрезентацию произведенных с собой взаимодействий : самонаблюдение, самосознание, самоописа-ние, самореферентность и круговую организацию сообщения и развития смыслов. Эта репрезентация и есть не-упущение сигналов, которое делает мысль процессом, а коммуникацию – сообщением другому действительных, а не мнимых внутренних процессов сознания.
Модель аутопойезиса позволяет рассмотреть коммуникацию как замкнутую структуру. В такой автокоммуникации субъект наблюдает систему, в которой он существует, и дистанцирует себя в ней как того самого наблюдателя, наблюдающего за собой и сообщающего собственные процедуры наблюдения как единственные решительные действия по отношению к себе. «Самоопределение субъекта коммуникации в дискурсе сообщения возможно, если точкой отсчета системы станет наблюдатель, помещенный в автономную коммуникацию, который самообна-руживает себя в качестве субъекта этой коммуникационной системы» [Рогозина 2009, 11]. Сообщаясь с самим собой, субъект наблюдает свои действия как решения по отношению к себе и сообщает себе и другим результаты этих решений, на самом деле производимые аутопоэтической системой как целым (а не отдельной позицией субъекта), закрепляя эти наблюдения в константном (фиксирующим постоянные поступки самосознания) дискурсе с собой и вероятном (фиксирующем общий для других смысл твоего самосознания, его доступность другим как залога их поступков) дискурсе с читателем, будущим или настоящим. Это не только со-общение, но и общение с актуальным / потенциальным актором.
В диссертации «Самоопределение смысла текста социальной коммуникации» (Ижевск, 2005) автор рассматривает, в частности, то, как субъект обнаруживает себя через язык. По мнению Рогозиной, самопознание возможно, только если субъект тождествен самому себе как «Другой». Тождество языка и «Другого» приводит к тому, что язык становится субъектом [Рогозина 2009]. Язык самоопределяется и реализуется через понятия, суждения, умозаключения и другие формы лого-построения. Так происходит систематическое поступание логоса как наделение сознания другого (собеседника) формой. Материальная действительность или гуссер-левская «вещность» взывает к собственному означиванию, о-предел-яющему границы (пределы) и смысл предметности. «Вещность» мира не самодостаточна, она, как аристотелевская материя нуждается в оформлении и именовании. Имя закрепляет компонент значения (функционального регулятора), смысла (актуализированного значения) и замысла (целостности системы). Имя завершает это единство. То же самое следует сказать и относи- тельно своего собственного по-именования. Человек в метафизическом измерении вопрошает о себе как о разумном существе, закрепляя значение, смысл и замысел о себе самостоятельно, причем находясь в этом деми-ургическом состоянии поиска и работы всю жизнь.
По-именованный субъект-наблюдатель и есть автор, пишущий свой текст. Пространство системы оказывается место-положени-ем смысла. В нее включаются социальные институты, индивиды и Я, отсюда упомянутые выше три типа коммуникации: Я–соци-альный институт (к примеру, Я и церковь как социальный институт), межличностная коммуникация (Я и мои друзья) и автокоммуникация (Я и моя совесть). Все три типа коммуникации определяют траекторию существования и вектор поиска смысла: найти веру, сделать доброе дело другу, жить по совести.
Общество отчасти утрачивает способность к продуктивной стороне коммуникации. Наблюдаемая в период пандемии атомизация общества снизила порог межличностной коммуникации, превратив ее в простой обмен данными или подтверждение данных (а также ложных убеждений, как в случае фейк-ньюз). Развитие технических средств, множество занятых профессионально на удаленном режиме работы, постпандемическая культура удержания социальной дистанции определили иные нормы соотношения социальной и автокоммуникации. Молчание – особое место положения смысла внутри этих сложных соотношений не-коммуникации.
Отношение молчания и безмолвности в современном мире изменилось. Из детства человечества мы перешли во взрослую жизнь. В эпоху Романтизма поэты и музыканты обретали безмолвие природы, что окружающими воспринималось как аутопойесис гения. В современном мире коммуникация и коммуникабельность обретают иные характеристики. Не молчание, а безмолвие вновь собирает коммуникацию и новую универсальную идентичность личности в той мере, в какой личность социальна по своей природе.
Мы пропитаны медиа и сами являемся медиа, посредниками текстов и смыслов. Мы воспроизводим и транслируем их, передавая аудитории тексты, встраиваясь в публичное пространство. Молчание личного пространства становится вызовом или высказыванием в публичном: соцсети, reels’ы, аватары выполняют функцию маски. Архаические деревянные и глиняные маски трансформировались в экран телефона или любого другого гаджета, который мы все время носим с собой. Там и происходит коммуникация, формирующая нашу новую универсальную идентичность, а коммуникабельность как навык прямого общения в современном мире утрачивается. Происходит коммуникация посредством экрана, за которым мы молчим, обретая «особые голоса», становясь сами себе шаманами, камлая новые смыслы и получая ответы.
Молчание связано с отдельно взятым индивидом, в то время, как безмолвие – процесс коллективного волеизъявления и коллективного действия. Совершая обряды, племена создавали атмосферу и пространство сакрального безмолвия, храня за щитом маски индивидуальный голос. Молчание – это право наряду с правом высказывания, которое осуществляет индивид, а безмолвие – коллективное действие. Поэтому мы индивидуализированы, пока молчим, но молчим оправданно; безмолвие же все чаще оказывается неоправданным, оказывается шаманизмом без бубна. Но без соотнесения безмолвия и молчания мы не сможем найти ту точку оправдания, где молчание как место действия становится местом исключения скандала и начала уже насыщенного диалога.