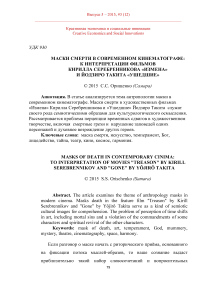Маски смерти в современном кинематографе: к интерпретации фильмов Кирилла Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие»
Автор: Орищенко Светлана Серафимовна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 3 (12) т.5, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется тема антропологии маски в современном кинематографе. Маски смерти в художественных фильмах «Измена» Кирилла Серебренникова и «Ушедшие» Йодзиро Такита служат своего рода семиотическими образами для культурологического осмысления. Рассматривается проблема перцепции временных сдвигов в художественном творчестве, включая смертные грехи и нарушение заповедей одних персонажей и духовное возрождение других героев.
Маска смерти, искусство, темперамент, бог, лицедейство, тайна, театр, кино, космос, гармония
Короткий адрес: https://sciup.org/14239038
IDR: 14239038 | УДК: 930
Текст научной статьи Маски смерти в современном кинематографе: к интерпретации фильмов Кирилла Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие»
Если разговор о маске начать с риторического приёма, основанного на фиксации потока мыслей-образов, то наше сознание выдаст приблизительно такой набор словосочетаний и вопросительных
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations предложений. Антропология маски. «Область маски простирается гораздо дальше, чем область темперамента». [6, с.34]. Кому принадлежит маска? Человеку? Животному? Богу? Когда маска является ликом, а когда личиной? «Маски имеют место даже в эфире и на всех ступенях духовного мира, поскольку сам духовный мир выступает в облачении, под маской материи». [6,с.36]. Маска и место её проявления. Маска клоуна в цирке, в кино. Лицедейство. Маска – это сокрытие чувств или их демонстрация? «Быть маской означает обладать развитым астральным телом». [6,с.46]. Какие литературные персонажи являются масками? «Железная маска» Александра Дюма. «Из-под таинственной холодной полумаски» Михаила Лермонтова, его же «Маскарад». «Балаганчик» и «Незнакомка» Александра Блока. Читается маска. Не читается маска, то есть не распознаётся. Маска и Античность. Маска и Средневековье. Маска и театр Востока. Где начинается искусство? Возможно, там, где маска выполняет несвойственную ей функцию? Бунт масок заключается в срывании масок? Кто в этом заинтересован? Маска на лице. Маска – действие. Маска архитектуры. Возможно ли фасад здания причислять к маске? Облицовочная плитка. Традиции в храмовом строительстве. Безличие современной архитектуры. Устремлённость строительства ввысь – спор с Богом, вызов небу, потерянность храма в архитектуре современного города. «Дом на набережной» Юрия Трифонова. «Пушкинский дом» Андрея Битова. «Вечный чеховский мезонин» в начале ХХ века как лицо эпохи. «Маска – это сосуд». [6,с.59]. Маскировка. Маскарад. Карнавал. Скоморошество. Святки. Приключения, желание изменить реальность. Перцепция временных сдвигов, остановка времени. Присутствие в пространстве. Движение. Поза. Жест. Театрализация
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations представления. Театральная премия – «Золотая маска». Выразительные средства маски: глаза, губы, нос, причёска, головной убор, костюм. Цвет маски. Функция маски. Углубление художественного образа или его схематичность. Маска и мистерия. Маска и символ. Маска и метафора. Маска и синекдоха. Карнавальная культура и маска. Венеция. Маска и ритуалы. Маски индейцев, африканцев, японцев. Маска и язычество. Шаманство. Посмертная маска. Затухание. Статичность. Обездвиженность. Мертвенность. Страх. Маска смерти есть, а маска жизни? Какое лицо у жизни? Многоликость маски. Многовариантность. Маска без эмоций. Неодухотворённость. Новогодняя маска. Маски животных. Маска-тотем Профессиональные маски. Сварщик. Врач. Грабитель. Диктор. Омоновец. Разведчик. Водолаз. Космонавт. Маска природы. Возможно ли применить это определение к пейзажу? Предгрозовое небо. Тишина перед бурей. Затмение солнца... Маска обманывает или предупреждает?
Из всего потока спонтанных мыслей и впечатлений мы остановимся на масках, используемых в кино, поскольку кинематографическая маска представляет собой достаточно многообразную и оригинальную составляющую в искусстве. Мы поговорим о масках, которые актёры вынуждены надевать на себя или на других персонажей, угадывая их сущность или ошибаясь в ней. Причём, мы выбрали фильмы, в которых лица актёров остаются на экране в обычном виде, не применяя и не примеряя масок карнавального типа. То есть лица героев остаются прежними, не приукрашенными, не видоизменёнными. «Понятие маска связывает способность к изменению и преобразованию внешности с практикой моделирования некого образа, способностью соединения символического лика с реально видимым и практически осуществимым
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations действием. Эта связь в крайнем своем значении маркирует исполнителя как маску». [9,с.12].
Тогда что такое – маска киноактёра? И чем она отличается от театральной маски? Маска – это ещё и состояние, которое помогает персонажу существовать в пространстве экранной жизни. Концентрация всех эмоциональных сил помогает в кино показывать себя в разных планах, скрывая своё я или демонстрируя одну из его черт, усиливая характерность образа точно так, как это делается на театральных подмостках. Достаточно обратиться к мнению известного режиссёра, чтобы понять, насколько многофункциональна маска актёра: «Отказавшись от маски как предмета на лице актера, В.Э. Мейерхольд начал маркировать различные явления жизни, театра, литературы через понятие маски, «в которой большое обобщение, поиск маски внутри себя»[7]. Маска у режиссера могла быть и характером, и социально значимым понятием, и пластической формой роли и амплуа артиста». [9, с.28].
Казалось бы, что говорить о маске на лице актёра, когда он не скрывает лица, довольно парадоксально. Но всё-таки попытаемся поговорить об этом на примере двух кинематографических работ последнего времени. Это художественные фильмы Кирилла Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие». Объединяет картины лишь современность. Все остальные составляющие разнят кинодрамы. Две страны: Россия и Япония. Любовный четырёхугольник в русской версии и поиск средств к существованию и обретение гармонии внутри себя в японском фильме. «Мёртвые живые» в
«Измене» Кирилла Серебренникова и «одухотворённые мертвецы» в
«Ушедших» Йодзиро Такиты. Но начнём всё по порядку.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Киноповествование Кирилла Серебренникова привлекает зрителя своей многоплановостью. Несколько пластов погружения: от банальной измены супругов до философских обобщений в «Острове мёртвых» Арнольда Бёклина и Сергея Рахманинова. Смертный грех измены классифицирован у восточных христиан в системе грехов под номером 2, то есть степень его разрушительной силы на душу человека располагается в первых строках. Интересен и тот факт, что плотский грех прелюбодеяния указан не только в смертных грехах, но и в десяти заповедях. Сладострастие, блуд, похоть, распутство давно стали обыденными в современном мире. Жена имеет любовника, муж любовницу. Девственность стала размытой категорией, настолько необязательной, что уважение к ней сохранилось только в стенах храма, остальные же члены общества считают её чуть ли не чудачеством. Верность «молодожёны» заменили добрачной проверкой на «совместимость»: пары сходятся и живут многолетними гражданскими браками, которые часто так и не становятся законными. Заводят детей для себя, с прочерком в свидетельстве о рождении ребёнка в графе отец. Прибегают к суррогатному материнству, чтобы не испортить себе фигуру. Сдают детей в детские дома как ненужную вещь. Страстное желание плотских удовольствий рождает новые трагедии, коверкает судьбы, меняет представление о добре и зле.
Если отнестись к истории Кирилла Серебренникова, как к частной истории из реальной жизни, то можно сопереживать двум героям, которые мучаются из-за измены своих супругов. Пациент, полный сил и здоровья, придя на профосмотр по программе всеобщей диспансеризации, уходит из кабинета врача-кардиолога с тяжёлым сердцем. Доктор сообщает мужчине не о проблемах со здоровьем, в
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations котором пациент не сомневался до сих пор, а о проблемах в его семейной жизни. Она утверждает, что её муж изменяет с его женой. Мужчина скептически отнёсся к сообщению, но сердце его дрогнуло. Он срывает с себя электроды кардиологического аппарата, как бы прерывая линию жизни, которая была обозначена характерным звуком при остановке сердца. Обиженные на судьбу и супругов доктор и пациент собираются отомстить неверным и совершить ответный удар. Здесь уместно вспомнить о масках в культуре как эквиваленте тайной жизни, как она видится искусствоведу Паоле Волковой: «Любовь и ревность – лёгкая добыча хищных масок, запутавшихся в маскараде жизни» [3, с.254].
Герои приходят на место «преступления» (из докторши мог бы получиться неплохой детектив, поскольку она в курсе всех телодвижений изменившего ей супруга и его любовницы) и пытаются заняться сексом. Попытка не увенчалась успехом, так как оба признаются, что прежде никогда не изменяли. Они попадают в ловушку, потому что не учли того факта, что не готовы к измене. Ситуация «между перед и внутри» мешает им уподобиться «ревнивым мстителям», оба испытывают неловкость, подобную в описании Жоржа Диди-Юбермана, когда человек, совершая поступок, ощущает на себе взгляд со стороны: «Мы между перед и внутри. И это неудобное положение определяет весь наш опыт, когда всюду, даже внутри нас, в том, что мы видим, открывается то, что смотрит на нас»[5, с.221].
Через некоторое время их обидчики погибают во время очередной интимной встречи. Доктор и пациент попадают под подозрение о подстроенном несчастном случае, поскольку в момент трагедии находились этажом выше. Мужчина берёт на себя вину, но следователь
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations рвёт его заявление с признательными показаниями, поскольку сомневается в них, и отпускает. После похорон мужчину начинает непреодолимо тянуть к докторше, но она прерывает общение на несколько лет. Случайная встреча бросает их в объятия друг друга, хотя оба за это время успели создать новые семьи. Местом своих встреч они выбрали тот номер гостиницы, где прежде встречались их супруги, номер, который объединил их бывших на смертном одре. Через некоторое время «новоиспечённый» любовник умирает в гостиничном номере от инфаркта. Любовница оплакивает свою горькую судьбу. Это первый поверхностный, реалистический план картины, рассуждая о котором, можно много почерпнуть из области нравственного облика современного общества. Но мы видим своей задачей не обвинение общества, погрязшего в разврате, а поиск других смыслов, которые попытались передать зрителям создатели фильма. Уже здесь, в первом пласте драмы, мы можем говорить о роли-маске, исполненной Франциской Петри в роли доктора. Именно маска главной героини и помогает увидеть в фильме Кирилла Серебренникова «сложную систему» символических аллюзий, подобных тем, о которых говорит в своём исследовании А. Толшин: «Определенный разброс значений слова маска выявляет сложную систему динамических внутренних и внешних взаимосвязей между маской, лицом, носителем и моделируемым образом и зрителем. В этих связях присутствует противопоставление маски и личности, выявляется связь с миром сакральным (через негативные экспрессивные синонимы и мир героев и мертвых), присутствует оппозиция Я–Другой... Этимология говорит в большей степени о духовных, чем о практических предназначениях маски»[9,с. 13].
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Если зёрна порока, попадают в почву, то они могут долго вызревать, чтобы потом вырваться на волю, пожирая человека, искажая его Божественную сущность. Жил-был человек, довольный своей жизнью, верящий в разумность своего существования, любящий муж и отец. Жил счастливо, пока его сознание не разъело сомнение в верности жены. Ревность героя приводит к убийству. Сегодня он обвиняет жену в измене и судит её и её любовника. А завтра сам повторит их смертный грех, грех, из которого не выпутаться, слишком тонко сплетены сети, которые улавливают души человеческие. В самом деле, если доктор и её пациент повторяют судьбу предыдущей пары, тогда почему они умирают не вместе? Почему доктор продолжает жить, ведь это она стала причиной сомнений верного мужа – своего пациента? (Месть всем мужчинам за неудавшееся женское счастье?) Не расскажи она об измене его жены, и он век бы прожил в неведении, долго и счастливо. Создаётся впечатление, что главная героиня фильма играет не только роковую женщину, способную использовать мужчин и играть их сердцами, а нечто большее. И вот здесь уместно вспомнить о маске, которая вроде бы не меняла лица героини. О той самой мертвенно-бледной маске, которая подчёркивает, что перед нами не женщина-вамп, а Мойра в её трёх ипостасях [8,с. 374]: сначала прядёт нить жизни, затем отмеряет её и наконец – отрезает, вычёркивая очередную жертву из списка живых. Уж слишком много смертей вокруг нашей героини концентрируется, и слишком ясно звучат слова, сказанные ею юной пациентке, что нет ничего прекраснее в жизни человека, чем смерть. Искусствоведы считают, что «маска и тело актера представляют собой неразделимое единство. Маска заставляет играющего двигаться так, чтобы лицо всегда было обращено к
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations зрителю. Это делает необходимым создание выразительной скульптурности тела и мизансцены. Характер жестов, их вариации, ритмы и размеры соответствуют выразительности маски. Этому же подчинены манера речи, особенности реакций и поведения. Такое единство способно «оживить» маску как персонаж (К.Вервейн, 2004). Маска связана с «экстрабытовым» движением. (Э. Барба) [2, с.7 – 10; 258; 262] , т. е. движением, передающим информацию. Оно предполагает создание «второго тела» (условной формы), «преувеличения социо-биологического феномена» (Е. Гротовский), [4,с. 268 – 269] требующего большой эмоциональной энергии. Его природа отражена в бахтинской гротесковой (экстатической) концепции телесности» [9,с. 32].
Удивительно, но Кирилл Серебренников идёт от противного, в первой части фильма мы чаще видим героиню со спины, как будто она накапливает энергию «второго тела», чтобы употребить её по назначению. Видим её стройную, по-девичьи утончённую фигуру, спрятанную то в медицинском халате, то в пальто. Маску смерти, которую носит героиня фильма, в начале киноповествования не сразу различишь: скромная одежда и обувь, немодная причёска. Героиня как будто прячет лицо, и это понятно: не хочет показывать припухших глаз и сметённого состояния духа. На лице минимум макияжа, подчеркнём ещё раз, особо выделяется мертвенная бледность, которую можно объяснить теми внутренними переживаниями из-за измены мужа, которыми она пытается поделиться с пациентом. Бледность настолько «съедает» лицо доктора, что «Бледная маска» безликой героини актрисы Франциски Петри напоминает нам маску смерти на «острове Измены». Всё, к чему она прикоснётся, подвержено смерти и тлену.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Находим подобные наблюдения в книге О. Аронсона «Метакино»: «Но лицо – настолько «сильный» объект, что практически не уклоняется от восприятия, а напротив, даже его формирует. Требуется особая изощренность представления, чтобы лицо-объект было опознаваемо не сразу. В подобных случаях (как на картинах Арчимбольдо, Дали, Магритта) лицо проступает как возможный эффект восприятия других вещей. Характерно, что «другие вещи» в лице увидеть намного труднее. Оно словно обладает неизбежным приоритетом восприятия. Есть и другой мотив в этой фразе – метафорический. Так можно сказать, когда мы имеем дело с чем-то, что не в силах принять в человеке. Когда мы сталкиваемся с бесчеловечным в человеке» [1,с. 69].
Кириллу Серебренникову удалось до определённого момента в драме сделать лицо героини «не сразу опознаваемым». По крупицам собираем маску, которую героиня тщательно пытается скрыть от зрителя. Вот героиня после очередной холодной ночи, проведённой в супружеской постели, ест землю, уподобляясь покойнику, которому в рот набивается земля. В этом эпизоде очень сложно скрыть истинную маску, хотя героиня стоит к нам вполоборота. Основная часть лица развёрнута к стене. Она сейчас мёртвая или живая? Что если она, всего лишь, клянётся, пожирая землю, отомстить обидчику, уничтожить его за пренебрежительное к себе отношение, за игнорирование себя и неисполнение супружеского долга. Все знают, что месть отверженной женщины может быть страшной, как тот сладострастный поцелуй на смертном одре, когда обиженная женщина запечатлевает его на губах улыбающегося покойника, не способного сопротивляться. Не ушёл-таки супруг от последнего поцелуя. И с тех пор губы Мойры
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations становятся ярко-алого цвета, как будто она подпиталась очередной смертью на несколько следующих лет. В сцене опознания мужа в морге, актриса даже не пытается посмотреть на супруга – она уверена, что это он. Да и какие могут быть в этом сомнения, если его гибель – часть её плана или вернее сказать – смысл существования? Удивительно, но эта кинематографическая ситуация так близка размышлениям Жоржа Диди-Юбермана в книге о минимализме в современном искусстве: «А ведь это та самая сила отсутствия, что лежит в основе формальной стратегии самого интересного, самого новаторского современного искусства, но и в основе анахроничной (в буквальном смысле этого слова) стратегии всякого человеческого желания, всякой человеческой скорби. Своим сущностным безмолвием – в котором нет неподвижности или инертности – и своей силой несходства минималистский «антропоморфизм» дал самый прекрасный из возможных ответов теоретическому противоречию между «присутствием» и «специфичностью» [5,с.119]. Для нас так важны размышления французского философа о том, как могут складываться отношения между тем, что «мы видим» и тем, «что смотрит на нас». Занимаясь философией образа и изображения, он рассуждает о нескольких видах безмолвия, которые так же соотносятся с нашими наблюдениями в фильме «Измена» Кирилла Серебренникова. Вспомним сцену поедания земли оставленной супругой. Она соотносится с «первым безмолвием», отмеченным Диди-Юберманом: «Первое безмолвие – это закрытый рот вселяющего тревогу человека.., перед которым он испытывает глубокое стеснение, неловкость и даже страх – чувствует себя отстранённым, словно между ними вкрадывается пустота, и в то же время поглощённый им, словно
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations пустота заполняет его самого, то есть оставляет его наедине с собой. Это человеческое безмолвие, обрыв речи, возбудитель страха и того «ответного одиночества», к которому зачастую принуждают своим присутствием мёртвые или безумцы» [5,с.105]. Героиня как будто специально набивает рот землёй, чтобы не проронить ни слова, ни стона, ни звука. Это та пустота, которая в скором времени отдалит её от супруга. В этой сцене она сама уподобляется мёртвой или безумной. Другая составляющая методологии художественно-исторических исследований Диди-Юбермана касается того, «кто смотрит на нас». Применительно к фильму это покойный супруг на церемонии прощания с усопшими. Здесь уместен и «закрытый ящик», который «поглощает и страшит» и упоминание фразеологизма «немой, как могила». «Второе безмолвие» накладывается на первое и делает невозможным возвращение того, кто смотрит из гроба, даже, несмотря на то, что на его запечатанных отныне устах играет улыбка. «Второе безмолвие – это «немой, как могила», закрытый ящик, который предписывает самим своим объёмом отстранение от содержащегося в нём опустения, – опустения, которое он, тем не менее, вновь открывает в глубине нашего взгляда: и это, конечно же, ещё один способ его поглотить. Ящик поглощает и страшит взгляд, возможно потому, что снова, другими средствами, обрывает речь – идеальную, метафизическую речь окончательно оформленной, полной формы; и ещё потому, что оставляет нас в этом обрыве одних, и словно открытыми перед ним» [5,с. 105].
По цепной реакции смерть возникает вокруг доктора на протяжении всей картины. Катастрофа в начале фильма тоже уносит жизни троих, это похоже на эпиграф к фильму смерти. Случайной гибелью людей на
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations остановке, на которой только что простились врач и пациент, героиня затягивает удавку, которую только что набросила на пациента в своём кабинете. С этой случайности он неотступно будет думать только о ней и о той истории, которой докторша поделилась с героем.
Другая составляющая маски доктора – её переодевание в лесу, смена одежды и обретение другой линии жизни. Как будто со сменой одежды – сдиранием личины – и сменой фамилии (мы предполагаем, что она захочет сменить её, чтобы забыть всё, что было в прошлом) она приобретает другую судьбу. Пребывание в «новом теле» привносит новые краски в жизнь героини: из нелюбимой и нежеланной она становится вожделенной. Это подтверждает новая маска – более женственная причёска, макияж, декольтированная одежда. Почему же у зрителя возникает ощущение, что перед ним Мойра. Известно, что в греческой мифологии со временем «Мойры понимаются как рок («то, что изречено») и судьба («то, что суждено»)… Мойры – это тёмная невидимая сила, она не имеет отчётливого антропоморфного облика, изображение Мойры в античном искусстве редко» [8,с.374]. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем героиню после похорон мужа в ванной комнате, тщательно сбривающей воображаемую щетину с лица и волосы с груди, как это делал её супруг при жизни, а затем героиня бреет ноги – привычные места для женского тела. Эта сцена вводит зрителя в недоумение, ставя перед ним ряд вопросов, на которые он пытается ответить. В самом деле, сначала кажется, что героиня обезумела от неразделённой любви: от горя или от радости из-за того, что настал конец этой истории, изнуряющей сознание. Если допустить мысль, что наше предположение о маске смерти в облике доктора-кардиолога из местной поликлиники имеет право на
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations существование, то становится ясной сцена бритья, поскольку «…у обитателей верхних и нижних миров, наряду с общими признаками сходства с человеком, как правило, присутствуют признаки, отличающие их от людей. К таковым обычно относятся гигантский или карликовый рост, огромная сила, наличие хвоста или крыльев, чрезмерная волосатость и др.» [10]. И если «чрезмерная волосатость» не обезображивает нашу героиню в буквальном смысле этого слова, то мы помним, что она прячется за маской, которая является не просто предметом искусства, а окном в другой мир. Здесь закономерно возникает вопрос: любила ли своего супруга героиня? Не мешал ли ей муж, не отнимал ли половину её сущности? Он точно не видел в ней привлекательной женщины, не чувствовал женского начала... А ей хотелось, чтобы её любили, любили так же страстно, как любят земных женщин. Она вынуждена делить с ним ложе, потому что она привязана к нему крепкой нитью, которой осталось недолго виться. Он, предчувствуя это, отказывает ей в любви. Она мстит, мстит страшно, отнимая жизнь в момент наивысшего наслаждения, лишая супруга не только смысла бытия, но и «собственного смысла». «Иначе говоря, смерть есть предельное действие, в котором мир обретает смысл именно в силу того, что в этот момент (и только!) умирающий отпускает от себя свой собственный смысл. Другие уже готовы присвоить этот смысл себе, готовы интерпретировать. И нет никакого шанса разрушить грядущее представление. Мир оказывается собран только на мгновение. Этот миг ярче всего освящен смертью. В этот миг ты теряешь не только язык коммуникации (и даже свой диалект), не только весь вещный мир (и даже его пустынность), но саму возможность противоречить. В этой точке ты присвоен другими,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations другие придают тебе смысл. Друзья и враги – и те и другие. И именно этот последний смысл убивает» [1,с. 52]. Интересно отметить тот факт, что в исследовании о сущности масок все противопоставления, связанные с «русской культурой ряженья», можно соотнести с нашей героиней и её первым супругом: «Так для русской культуры ряженья характерна и чрезвычайно важна демонстрация некоторого числа противопоставлений: мужского – женского, своего – чужого, нечеловека – человека, молодого – взрослого, не состоящего в браке – состоящего в браке, живого – мертвого, социально высокого – социально низкого» [9,с.14]. Кроме этого в фильме звучит симфоническая поэма Сергея Рахманинова «Остров мёртвых», созданная композитором по впечатлениям от одноимённой картины Арнольда Бёклина. «Широкий спектр модификаций маски в современной культуре определяется потребностями общества и богатой культурологической историей этого знака» [9,с.18]. Маска смерти, проникнув в совремемнное общество, превратила его в метафорический остров мёртвых под названием «Измена». «Вектор функций масок карнавальной культуры меняется: социальные связи вытесняют связи человек - космос, человек – сакральное» [9,с. 15].
В русской культуре со времён Н.В.Гоголя продолжает звучать тема о «мёртвых душах». Сегодня тема греховности интерпретируется в современном кинематографе, корни которого уходят в культуру начала ХХ века и в середину ХIХ века, в эпоху Средневековья и ветхозаветные времена грехопадения человека. Так «живые мёртвые» Кирилла Серебренникова в художественном фильме «Измена», утратив душу, пополняют «Остров мёртвых» Арнольда Бёклина под звуки бессмертной музыки Сергея Рахманинова. Задача современного
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations зрителя увидеть в простой истории об измене из жизни частных лиц историю космическую, касающуюся каждого, кто претендует на звание человека. В тревожных пульсирующих сигналах услышать предупреждение о возможной безвозвратной утрате человеческого лица, которое неподвластно спасти никакой маске… Почувствовать тревогу за тех, кто бездумно тратит себя на греховные помыслы и действия. По мнению создателей фильма, маска смерти в русской культуре перестала быть похожей на страшную старуху с косой. Она становится многоликой, чтобы не спугнуть жертву заранее узнаваемыми атрибутами.
Иначе маска смерти интерпретируется в киноповествовании
«Ушедшие» японского
режиссёра Йодзиро Такита, оригинальное название «Окурибито» («Ушедшие люди»). Возможно, что
«присутствие» масок в японском фильме не требует от читателя интерпретации в той мере, как это происходит в фильме Кирилла Серебренникова. Сюжетная линия проста. Молодая пара любящих друг друга супругов вынуждена из Токио перебраться в провинциальный городок – родину супруга Дайго (актёр Масахиро Мотоки). Причина – увольнение виолончелиста, так как хозяин распускает симфонический оркестр, который не приносит должного дохода. Несмотря на грустное известие, жена Мика (актриса Риоко Хиросуэ) с радостью принимает предложение мужа переехать в старый дом, оставленный ему в наследство. Супруг находит новую работу по объявлению в газете, предполагая, что устраивается в турбюро. Истина, открывшаяся Дайго некоторое время спустя, буквально потрясает музыканта. Оказывается, он принят на работу в похоронное бюро, что само по себе, для русского зрителя, не является трагедией. Но, устроившись на новую работу,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations виолончелист, чуть не потерял отношения с дорогими и близкими ему людьми. Узнав о его новой специальности, от него отворачиваются друзья, оставляет супруга, обходят стороной случайные встречные. Брезгливое отношение окружающих к молодому человеку за то, что он выбрал не совсем «чистую» профессию несколько обескураживает. С нашей точки зрения, нет плохих профессий, а есть искажённое представление о них, неправильное понимание жизни и смерти. Особая философия приятия смерти как составляющей жизни человека свойственна японскому кинематографу. Достаточно вспомнить известную работу Сёхэя Имамуры «Легенда о Нараяме» и две модели поведения героев перед смертью. Страх перед неизбежным увлекает неподготовленного мужчину в бездну, а смирение дарит героине её мечту – проститься с миром живых при кружении волшебных снежинок…
Дайго задерживается на работе только потому, что его новый начальник Икуе (актёр Цутому Ямадзаки) предлагает ему высокий оклад за то, что он будет готовить усопших к переходу в мир иной, собирая их в последний путь. Молодой человек не предполагает, что с этого момента его жизнь обретёт новый статус, статус отверженного. Пройдёт время, прежде чем бывший музыкант сможет вернуть утраченное: любовь жены, уважение друга, гармонию в себе…
Положение во гроб в Японии – традиция, традиция красивая, достойная уважения. Дайго, постоянно наблюдая за трагедиями в семьях, куда постучалось горе, становится свидетелем ситуаций, в которых близкие усопшего становятся намного терпимее друг к другу, пытаются понять свои ошибки, переоценивают те моменты жизни, которые привели к трагедии. Молодой человек, будучи внимательным
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations учеником, с уважением относится к ритуалу омовения усопшего, его одевания и нанесения макияжа. В его заботливых руках покойный преображается и становится похожим на живого. Маска смерти, обезображивающая лицо, отступает, и оно превращается в лик. «Маска всегда и во всех дорелигиозных мифологиях была магическим посредником в общении с потусторонним миром» [3,с. 229]. Вот и в работе специалиста высокого класса усопший «оживает», приобретает черты некогда существовавшего на земле человека. Родственники перед прощанием видят любимого человека, одухотворённого стараниями Дайго, который на непродолжительное время возвращает усопшего в его привычном обличье, мирно упокоенным, как будто спящим. Бережное, трепетное отношение бывшего музыканта к столь непохожему ни на какой другой труд ремеслу, рождает в сердцах родственников, тех, кто прощается с покойными, благодарность. Тем более удивляет то, что ценность этой работы осознают лишь те, кто соприкоснулся с трагедией. Глупость ли, высокомерие ли близких, или их нежелание понять и принять новую реальность, в которую погрузился главный герой киноистории, приводит к разрыву с ними. Перед молодым человеком стоит ряд неразрешимых вопросов: оставить любимую женщину, уйдя с работы, или продолжать дело, которое стало не только средством к существованию, но и познанием самого себя, философии жизни. Тем больше диссонирует с благими намерениями героя поступок супруги, которая решает покинуть мужа, забывая, что его ремесло, к которому в обществе многие относятся с пренебрежением, важно для тех, кого посетило горе. Более того, оно сродни искусству, ведь умение создавать маску, одухотворяя её, подвластно не каждому. Тайна этого мастерства уходит в глубь времён
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations и принадлежит культуре: «Абсолютное значение маски бесспорно, она не имеет срока давности. Маска – это инструмент преображения или метаморфоз. Инструмент таинственный и древний. Она родилась вместе с культурой. Значения и толкования её безграничны, одновременно размыты и конкретны»[3,с. 229]. Не случайно кто-то из зрителей фильма охарактеризовал работу режиссёра как рисунки цветными мелками и акварельными красками. Цветной мелок рисует детскую картинку, на которой Дайго выглядит в разных ситуациях порой нелепо, порой карикатурно. Это съёмки фильма, где он выступает в роли своих подопечных, ролик был заказан для обучения молодых специалистов. Это похороны юноши, который считал себя девушкой и расстался с жизнью, не найдя себе места в этом мире и не заручившись поддержкой близких. Это работа с двухнедельным трупом одинокой старушки, запах которой долго преследовал юношу. А вот акварельными красками тонко, со знанием дела, прорисованы эпизоды, когда юноша осознаёт важность своего труда и, переняв опыт старшего друга, готовит усопших к прощанию с семьёй. Сложность его работы заключается не только в принятии того, что он делает с телом, но и в том, что весь ритуал: омовение усопшего, одевание его в погребальные одежды и наложение макияжа, подобного маске-жизни происходит в присутствии близких. Сколько уважения, сколько такта, сколько мастерства необходимо проявить, чтобы неловким движением, взглядом, словом не оскорбить ни присутствующих, ни усопшего. Маска покойного создаётся руками мастера с такой любовью, что возникает иллюзия «ожившего» умершего, как будто душа вновь вошла в его тело, чтобы проститься с близкими. Церемония положения во гроб меняет не только облик покойного, но и примиряет живых с
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations уходом близкого человека, примиряет с его ошибками, обидами, непониманием. Делает смерть частью жизни, вселяет в живых уверенность в том, что жить стоит, если сама смерть привносит в сознание столько нового, непознанного, светлого и позитивного. Красота ритуала позволяет присутствующим осознать, что «…ритуальные маски у всех народов мира связаны с основополагающими понятиями смерти и воскрешения» [3,с. 233].
Это значит, что после смерти жизнь непременно продолжится, конец, является началом нового витка жизни. Маска покойника настолько «оживляет» его, что некоторые родственники, провожая его в последний путь, оставляют на лице кокетливые поцелуи от представительниц рода всех возрастов, превращая прощание в особую игру, где нет места унынию, потому что за расставанием обязательно будет встреча.
Удивительно, но зритель одобряет нравственный выбор героя фильма – служить новому делу, сочувствует ему, ведь жить, обрекая себя на непонимание близких, очень сложно. Постепенно мы узнаём, что он раскаивается в том, что мало внимания уделял матери, когда строил карьеру музыканта и мечтал покорить мир, и винил себя в её раннем уходе. Винил за то, что не был в это время рядом с ней. Новая работа стала искупительной чашей, которую Дайго пытается выпить до дна, не перекладывая трудности на плечи других людей, иными словами – честно несёт свой крест. Другая тревога, мучившая сознание киногероя, заключалась в том, что он никак не мог простить отца, который оставил семью, когда мальчику было всего несколько лет. Это было так давно, что Дайго никак не мог вспомнить любимого лица. В отрывочных воспоминаниях он видел лишь сильные отцовские руки и
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations камни, которые отец любил рассматривать и рассказывать о них истории маленькому сыну. Череда событий возвращает герою утраченную дружбу и любовь. И если друг протянул руку своему бывшему товарищу, потому что сам прошёл по дороге утраты, то жена героя не только вернулась сама, но и помогла мужу обрести гармонию внутри себя, помогла простить отца и совершить обряд положения во гроб самого главного человека, того, кого так давно он потерял при жизни и обрёл после смерти. Так маска жизни примиряет молодого человека с философией жизни: напоминает, что мы, теряя, обретаем. Так некая тайна вокруг ритуальной маски, по-восточному, скупо и мудро дарит нам прозрение, граничащее с пророчеством: «Художественные традиции маски в истории мировой культуры различны, но они свидетельствуют о некой исконной общности образного мышления человечества любой стороны мира» [3,с. 229].
Из подмастерья Дайго становится мастером церемонии. Он приобретает не только новую профессию, в которой продолжает жить и развиваться человек искусства, но и обретает себя, потерянного когда-то давно при предательстве своего ближнего, от которого на память остались детская виолончель и тяжёлый камень, знаменующий собой груз потерь и сложных жизненных ситуаций, сопутствующих молодому человеку. Дар отца вернулся к сыну маленьким камешком, который отец перед смертью бережно зажал в ладони как самое сокровенное. Эта находка примиряет молодого человека с самим собой. Всё было не напрасно: увольнение из оркестра, переезд в провинциальный город, непрестижная работа, конфликт с близкими и расставание с ними. Эти события произошли, чтобы подготовить молодого человека к главной встрече в его жизни. Когда Дайго узнаёт о
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations смерти отца и решает проститься с ним, судьба снова испытывает героя. На этот раз она посылает ему человека, который относится к своим обязанностям формально, именно он должен подготовить отца Дайго к погребению. Юноша, видя такое отношение к своему близкому, был вынужден отказаться от услуг равнодушного непрофессионала и взялся сам решать эту сложную задачу.
На протяжении всего фильма мы наблюдаем за чередой событий, которые необходимы для духовного роста нашего героя. Чтобы простить отца и обрести спокойствие внутри себя, чтобы продолжить жить в гармонии с собой, с любящим сердцем ко всем живым и всем ушедшим, ему необходимо найти себя, настроить сердце на любовь. Отныне «занятие маской» стало неотъемлемой частью жизни молодого человека, потому что «…маска – это фокус, вокруг которого могут собраться духовные силы» [6,с. 110].
В поисках утраченной души, в которой перестала звучать музыка, герой находит себя и становится виртуозом в другом виде искусства, чьё ремесло так необходимо окружающим в самые трудные минуты жизни. Взросление героя сопровождается его возвращением к истокам, без которых немыслимо становление личности. Он научился дышать воздухом родного края. Его будущее достойно счастья, потому что он научился главному – быть жертвенным, жить для мира и гармонии. Припоминаются слова Карла Кёнига, сказанные в другом месте и по другому поводу, но соотносящиеся с темой нашего высказывания: «Стать миром, вырасти из себя самого – означает объединиться со всем, что существует вокруг нас здесь, на Земле, в чувственном мире, и там, в сверхчувственном духовном мире. В духовном мире это соединение с теми, с кем мы связаны кармой, с ангельскими и
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations архангельскими существами, с космическими письменами, с космическим Словом – выдохнуть себя в мир. С другой стороны, в процессе становления человек обратно возвращается в себя. Он вдыхает, отражает своё окружение и так пытается постигнуть себя. В равновесии между становлением миром и становлением человеком, между выдохом и вдохом познаёт себя душа» [6, с.127 – 128].
Вот так и познают себя души в двух кинематографических работах «Измена» Кирилла Серебренникова и «Ушедшие» Йодзиро Такита. И объединяет эти две работы только тайна маски, маски смерти. Именно эта тайна позволила нам объединить этих художников, потому что вслед за Паолой Волковой мы считаем, что «тема “Тайна маски” для всех эпох нам кажется основополагающей и одинаково важной для общества во времена Теренция, Марселя Карне или Феллини» [3, с. 254].
Список литературы Маски смерти в современном кинематографе: к интерпретации фильмов Кирилла Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие»
- Аронсон О. Метакино. -М.: Ад Маргинем, 2003.
- Barba E., Savarese N. A dictionary of theatre anthropology. The secret art of the performer. Second edition. Routledge. London and New York, 2006. P. 7 -10, 258, 262.
- Волкова П. Мост через бездну Книга первая -М.: Зебра Е, 2013.
- Grotowski J. Pragmatic laws/Barba Eugenio and Nicola Savarese. A dictionary of theatre anthropology. The secret art of the performer. Second edition. Routledge. London and New York, 2006. P. 268 -269.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас/Пер. с фр. А. Шестакова -СПб.: Наука, 2001.
- Кёниг К. Человек в Саmphill'e (импульс социальнотерапевтического деревенского сообщества) -Калуга: Духовное познание, 1995.
- Мейерхольд В. Э. Чаплин и чаплинизм. Лекция пр. 13 июля 1936 г//Искусство кино. -1962. -№ 6.
- Мелетинский Е.М. Мифологический словарь -М.: БРЭ, 1992. -С. 374.
- Толшин А.В. Феномен маски в театральной культуре. Автореферат -СПб., 2007.
- Антропоморфизм Википедия . Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропоморфизм (14.12.2014).