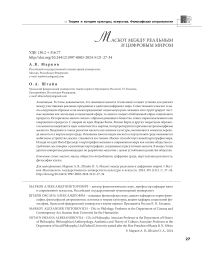Маскот между реальным и цифровым миром
Автор: Марков А.В., Штайн О.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры, искусства. Философская антропология
Статья в выпуске: 5 (121), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье доказывается, что эволюция маскота (талисмана) создает условия для диалога между участниками реальных праздников и адептами цифрового мира. Сопоставляются маскот и маска следующим образом: если маска предъявляет социальную роль человека или структурирует частные желания как легальные в социальной сфере, то маскот создает обобщенный образ социального прогресса. Исторически маскот связан с образом домашнего божества, гения, переосмысленного как покровитель прогресса. С опорой на идеи Жоржа Батая, Ролана Барта и других теоретиков образности маскотов выделяются идеи солнечности и жертвы, интерпретируются причины антропоморфизма маскотов. Выделяются этапы развития маскота как явления культуры, вычленяются моменты перехода маскота и в виртуальную среду. Основным вместилищем маскота в виртуальной среде оказывается мобильное устройство, маскот становится его гением. Маскот способствует новой картографии мира. Исходя из идей Поля Пресьядо о картографии желания в современном мире как основе общества потребления, мы говорим о различных картографиях, создаваемых присутствием маскота. В конце статьи даются конкретные рекомендации по разработке маскотов с целью устойчивого развития общества.
Маскот, маска, общество потребления, цифровая среда, виртуальная реальность, философия куклы
Короткий адрес: https://sciup.org/144163190
IDR: 144163190 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-5121-27-34
Текст научной статьи Маскот между реальным и цифровым миром
Введение: маска и маскот
Слово маскот (mascot, mascotte) – уменьшительная форма от слова masco, бывшего, например, в старом окситанском и некоторых других романских языках, – ведовство, колдовство. Это слово имеет и женский род masca, maschera – изначально призрак, нечто непонятное и завораживающее. Средневековое латинское mascus могло означать и привидение, и колдовство, что-то такое, вторгающееся в наш мир. В какой-то момент masco слилось с арабским maskharah (шут; мы знаем это слово в русской форме «маскарад»), и отсюда привычная нам карнавальная маска. Тогда как слово маскот – это искусственное образование для небольшой забавы, малого колдовства, то есть талисман. Часто слово «маскот» и переводят как «талисман» – олим- пийский талисман. Но тем не менее, маскот обладает рядом свойств, которыми не обладает талисман.
Основное различие между маскотом и талисманом – это направленность. Талисман стремится стать схематичным и часто представлен нулевой формой, в семиотическом смысле: скажем, часы дедушки или пятак, положенный в ботинок, становятся талисманом. Тогда как маскот, наоборот, это всегда дизай-нерски разработанный образ, со множеством деталей, подробностей и особой привлекательностью. Так, маскотами университетов выступают реальные или фантастические животные. Маскот Лондонской школы экономики – бобёр, маскот Йельского университета – бульдог по кличке Дэн, маскот НИУ ВШЭ – воронёнок (хотя обычно его называют вороной), маскот РГГУ – грифон Гриша. Имя маскота – первый шаг к его антропоморфи-зации.
Мы можем предварительно выделить следующие различия между маской и маскотом.
Маска не масштабируется – она закрывает лицо, и не может быть уменьшена или увеличена. Возможна маска маски, например, маленькая сувенирная маска или украшение в виде маски. А вот маскот маскота невозможен, маскот может масштабироваться, часто он бывает и ростовой куклой, и карнавальной куклой огромного роста.
Маска всегда индивидуальна, и даже если множество людей выступает в одинаковых масках (маски Гая Фокса), это выступление индивидуалистически окрашено. Сл. Жижек [1, c. 329] приводит в пример аргентинское выступление 2001 года против правительства и непосредственно министра экономики Кавалло. Когда толпа окружила здание, Кавалло сбежал в маске самого себя и был не замечен. Ф. Ницше в «Посмертных афоризмах» (афоризм 493) писал: «Лучшая маска, которую только мы можем надеть, это наше собственное лицо» [4, c. 406]. Двойное лицо, лицо лица или маска маски, взывает к неожиданному недоумению, которое чувственно индивидуально. Тогда как маскот имеет в виду то, что И. Чубаров удачно назвал «коллективной чувственностью» [6]: совместное участие в мероприятиях, например, карнавальных шествиях, как способ ограничить индивидуальную чувственность в пользу общего переживания.
Разница маски и маскота в том, что маска взывает к разоблачению, а маскот нет. Ценность маскота – в сохранении данного образа в нетронутой целостности. За маскот не заглядывают, какая поверхность там. В нем не видят изнанки, он полностью предъявлен как олицетворение, как лицо, не имеющее швов. При этом он может вполне считываться как чужое лицо, и в этом смысле может представлять другого [8], но только в случае признания другого как несомненной ценности.
И маска, и маскот являются образами образа. Но в маске я сам конструирую образ себя и его границы, поэтому результат не обладает убедительностью, в нем всегда есть швы несоответствия замысла и воплощения. Я внутренне включен и не вижу целостного образа, я не могу вырваться за пределы изображения себя, так как не перестаю «переживать себя изнутри и с изнанки» [7, с. 81]. Эту изнанку можно проиллюстрировать словами Ф. Понжа о творчестве Лотреамона как предвестии сюрреализма: «Откройте Лотреамо-на! – и вся литература вывернется наизнанку, словно зонтик! Закройте Лотреамона! – и все немедленно вернется на свое место» [3, с. 442]. Вывернутая наизнанку, словно «зонтик Лот-реамона», маска лишается демаркационной линии, но иначе топографирует и движет весь мир, создает ситуацию модерна , в то время, как маскот оборонительной линией обернут (обернут обороной), поскольку его лепили и творили, внутренне не включаясь.
В маске ты зародыш самого себя: и зародыш, и плацента. Модерн, современность и есть рост этого зародыша. Маскот творится повитухами и защищен от разоблачения, как защищен от разлома. Маскот дан извне, как символ и талисман, хранящий эпоху своей целостностью. Маскот требует особой самоидентификации, обретение потребителем его своей целостности и предполагаемой устойчивости своего тела [10]. Его хранят и передают в целостности, иначе он бы лишился своего собственного смысла. Полярный мишка известной советской кондитерской Санкт-Петербурга (ранее Ленинграда) бережно передается и транслируется в постсоветское время.
Такое определение маскота ставит проблему: если маскот коллективен и в чем-то тотален, то не посягает ли он на нашу индивидуальность? Не становится ли он инструментом общества потребления, действующего уже не только в реальной, но и в цифровой среде? Мы настаиваем на том, что маскот обладает критическим потенциалом, и его нельзя называть только проводником рекламы и потребления.
Этапы развития маскота
Фундаментальная форма маскота связана с развитием автомобилизма. Radiator mascot – это фигурка, стремительная, на капоте автомобиля. Так, у лимузина Линкольн это была худая борзая, а у легкового автомобиля марки ГАЗ – олень. У некоторых марок автомобиля были маскоты-гении, крылатые существа с человеческими лицами. В 1960-е годы нормы безопасности потребовали расстаться с этими игрушками. Радиаторный маскот обязан устройству капота автомобиля – мотор открывался подъемом кожуха сбоку, и поэтому маскот не смещался. Он был как бы малым идолом автомобиля, его стремительностью, его умением преодолеть расстояния – он всегда был на месте, не откидывался. Откидной капот стал уже закатом маскотов. Маскот должен действительно – как призрак – присутствовать перед автомобилем, а не находиться в подчинении у механического устройства автомобиля. Здесь мы уже видим некоторую критическую автономию маскота.
Другим местом маскотов стали тонкие журналы – денди Юстас Тилли в журнале «Нью-Йоркер» или Мурзилка, забавный мишка-собачка в одноименном советском детском журнале. Этот маскот идеально реализует задачи журналиста: он фланер, меткий наблюдатель, точно всё фиксирующий. Он лишен пристрастий и недочетов живых журналистов, которые иногда опаздывают и бывают сварливыми. К таким маскотам и их историям привыкают читатели журнала. И хотя в цифровую эпоху должен был наступить их упадок, потому что каждый теперь сам себе журналист, фиксирующий всё вокруг, но эти маскоты всё равно известны. Разве что они стали аватарами людей, например, Юстас Тилли способен превращаться в современного политика. Это отражает современный мир цифрового следа, новых форм шпионажа и подозрений. То есть в цифровую эпоху маскот отстаивает свою автономию в мире цифрового следа.
Следующий этап развития маскотов – рок-культура. Все мировые группы имели неожиданных, но интимно связанных с названием и концепцией группы маскотов: например, лета- ющая свинья группы Pink Floyd или зомби группы Iron Maiden. Эти маскоты можно было масштабировать на мегашоу, делать сколь угодно большими – маскот работал как карнавальная фигура, выворачивая идею рок-группы в факт публичного ее присутствия. Рок-протест приобретал тогда социальное измерение, становясь незаменимым способом социальной организации публики. В русском роке тоже можно указать на маскоты, но не масштабируемые – очки Егора Летова, гармошка Федора Чистякова. Автономия маскота проявлялась в его умении способствовать социальной интеграции независимо от эстетических особенностей рок-группы.
Следующий этап развития маскотов – это, конечно, Олимпийские игры. Маскот не просто масштабируется здесь, он занимается разными видами спорта. При этом общая тенденция олимпийских маскотов – отход от антропоморфности, поэтому с Олимпийской идеей связан важнейший перелом: до этого маскоты тяготели к антропоморфности неумолимо. Так, на Туринских зимних играх 2006 года маскотами были Снежинка и Ледок, в Ванкувере в 2010 году – Мига и Куатчи из местных мифологий, а на парижских играх этого года играют фригийские колпаки. Здесь суть маскота в том, что факт тренировки важнее любой начальной телесной данности. В этих маскотах телесность не преображается, а создается минус-телесность, нулевая степень телесности, говоря семиотическим языком Ролана Барта.
Это напоминает идею «порнотопий» Поля Пресьядо [9], современного последователя Ролана Барта и Мишеля Фуко, – пространств желания: согласно Пресьядо, дом Хью Хафне-ра, создателя журнала «Плейбой» – это минус-бордель, это уютный дом, но мужского уюта, это не пространство топосов маскулинности, а порнотопия общего потребительского желания. Заметим, что у журнала Плейбой есть маскот, кролик в бабочке с кокетливыми ушками – как раз образ производства желания как одновременно уютного и мягкого, но и поддерживающего мужской режим престижного потребления, с бабочками и дорогими духами. Таким образом, исчезновение антропоморф- ности – это растворение биографии в топографии, а вовсе не преобразование самого маскота. Но антропоморфизм (человечность) взгляда маскота, его гримасы, выражения лица, не становится меньше, даже если маскот совсем не похож на человека.
В Лондоне в 2012 году маскотами Олимпийских игр стали одноглазые монстры Венлок и Мандевиль – их имена отсылают к прототипу Олимпийских игр в английском Венлоке и к госпиталю Мандевиль, где состоялись первые Паралимпийские игры. Таким образом, здесь уже маскот стал чистым глазом, чистым топографом, создающим режимы тренировок и вычитающим любые другие режимы присутствия. Монструозность олимпийского маскота необходима как часть честного соперничества – в конце концов, даже наш улыбчивый Мишка работы Виктора Чижикова обрел навык летать на воздушных шариках, то есть стал чистым показом, чистой демонстрацией , чистым взглядом сверху на все условия состоявшихся соревнований.
Так в Олимпийском движении маскот автономизируется и от собственного тела, и от антропоморфности, но возвращает себе начальный смысл призрака, привидения, пугающего человека и поэтому человечного в широком смысле. Такое привидение, поднявшееся над горизонтом, заставляет нас бежать, ставить рекорды, мобилизовываться и развивать другие спортивные навыки. Он не большой брат Оруэлла, но большой спортивный товарищ, требующий в том числе критически относиться к прежним рекордам.
Теория маскота
Итак, маскот может, в отличие от талисмана или маски, сколь угодно масштабироваться и занимать горизонт, подобно джину из бутылки, и быть колдовством по смыслу своего названия: он так видит весь мир и оказывается магическим элементом, благодаря которому в мире ставятся рекорды. Это присутствие трансгрессивно, потому что маскот, автономизируясь от своих свойств, выступая не как деталь механики прогресса и социаль- ной механики, но как чистое присутствие образа, побеждает саму идею образности. Обычно образ вызывает ассоциации, тогда как маскот не может вызвать ассоциаций: бобры не учатся в университете, а медведи и выдры не занимаются спортом.
Здесь следует вспомнить идею Жоржа Батая о солнце как определенном символическом центре опыта, отождествление с которым всегда трансгрессивно, что блестяще изложил лучший специалист по Батаю А. Зыгмонт [2]. Оно не компенсирует нехватку речевыми и образными ассоциациями, а требует действия. Ведь солнце избыточно, и отношение к нему – не компенсация нехватки желания, а напротив, необходимость укротить избыточность желания. Батай приводит в пример Ван Гога, который отождествлял себя с солнцем и подсолнухом, и отрезал себе ухо, совершая символическое жертвоприношение, расставаясь с системой желания ради чистой вспышки трансгрессии. Можно упомянуть множество примеров такого участия солнца не только в нынешнем, но и в будущем жертвоприношении: это и солнечная поэзия символистов, таких как К. Бальмонт, у которого тоже был опыт частичного жертвоприношения: вдохновенный, он вышел из окна и сломал ногу; и опера «Победа над солнцем» (1913) Крученых, Матюшина и Малевича. В мультфильме Андрея Хржановского «Нос, или заговор не таких» (2020) Гоголь уезжает из родной усадьбы подсолнуховым полем, где выросли «Подсолнухи» Ван Гога, то есть уезжает на казнь, мучение на холодном и призрачном Невском проспекте, и рассказать о будущих казнях. Виктор Пелевин в романе «Путешествие в Элевсин» (2023) показывает солнечный культ Гелиогабала создает возможность конституирующего (учреждающего культуру взаимодействий) жертвоприношения не только в реальном, но и в виртуальном пространстве.
Можно вспомнить и роман Н. Носова «Незнайка на луне» (1965), где Незнайка и Пончик летят на Луну. Пончик оказывается жертвой, предметом насмешек Незнайки, но он же оказывается образом солнца, истребляющим все продукты в ракете, кристаллизующем соль на Луне, то есть делающим всё то, что делает жаркое солнце. Психоаналитический подход в классическом варианте Фрейда требовал бы различения между Незнайкой, находящимся на генитальной стадии, связанной с властью, и Пончиком, находящимся на анальной стадии, связанной с деньгами. Здесь идеи Фрейда совпадают с идеями Батая, которые развивает Пресьядо в наши дни, что мир отбросов и есть мир солнечного участия, потому что здесь нет компенсации нехватки, но только чистое извержение избыточного, чистая переполненность, образом которой являются деньги. Где мировые рекорды, там и большие деньги.
Алексей Зыгмонт точно пишет: «Итак, солнце, как мы полагаем, играет в текстах Батая 20-х – 30-х гг. роль оператора некоего иного мира, изнанки реальности, для описания которой он последовательно использовал концепты ирреального, низкой материи, гетерогенного и, наконец, сакрального» [2, с. 342]. Термин «оператор» исследователь берет у Ролана Барта, а «сакральное» в мире Батая понимается им как связанное с жертвоприношением. Таким образом, солнечность маскота, такого как Подсолнух, который можно считать маскотом творчества Ван Гога, противопоставлена нехватке, очевидной в случае маски, где всегда нужна компенсация, восполнение, узнавание маски и приписывание социальной роли. Эротической нехватке противостоит особая избыточность солнца, освещающего высокое и низкое без всякого различия.
В маскотах всегда есть солнечность. Они создаются обычно с помощью светлых, блестящих тонов, светотень при создании маскотов никогда не используется. Это видно и в виртуальных маскотах, в которых возвращается антропоморфизм. Живущий в телефоне кот Том (популярная игра 10 лет назад) или анимированные эмодзи ведут себя совершенно по-человечески, с человеческими гримасами. Так выглядели средневековые львы, солнечные звери, часто с почти человеческими лицами. Антропоморфизм маскота удерживается в виртуальном мире [11], который есть мир монитора, мир света.
Выводы
Современные создатели маскотов учитывают солнечность маскота, даже не располагая специальной его теорией. Суханова и Бабкина [5] предложили маскотом библиотеки кота Тимошу. Этот образ соединяет народную традицию (имена Котофей и Тимофей для кота), уменьшительный суффикс, применявшийся к людям, животным и даже к антропоморфной технике (компьютер «Ми-кроша» в эпоху перестройки). Таким образом, эта эмблема, хотя и предназначена для традиционной библиотеки с бумажными книгами, вполне отражает законы виртуального мира и тягу к антропоморфизации в нём.
Другой упомянутый выше в тексте маскот кондитерской «Метрополь-Север» (Санкт-Петербург) имеет давнюю историю в императорской, советской и постсоветской столице. Белые мишки стали образом качества кондитерской продукции: именно белизна, чистота, покорение севера и смелость символизируют идею северной столицы. Петербург в чем-то сам антропоморфизирует-ся благодаря этим кондитерским, становится не отвлеченной северной столицей, а местом производства каких-то родных и узнаваемых символов, существом, способным дарить подарки. С 2009 года по инициативе Валентины Матвиенко кафе-кондитерская «Север» в числе всего шестнадцати адресов Петербурга, обладающих высокой значимостью для истории и культуры города, была включена в состав «Красной книги памятных мест Санкт-Петербурга» и не подлежит перепрофилированию. Также и изображения северных мишек, белизна которых сияет в полярный солнечный день, или же они сами будто источают северное сияние, некоторую живописную солнечность, будут охраняться и бережно передаваться.
Сопоставление маскота и маски приводит к выводам, что маска индивидуальна, это манифестация статусных достижений и частных желаний, в то время, как маскот – это образ обобщенный и социально сконструированный. Переход маски в виртуальную среду обусловлен опытом генерации аватаров, переход маскота в виртуальную среду вызван развитием цифрового общества потребления.
Маскот и маска покоряют пространство, заставляя нас вспомнить архаическую магию и анимизм. Маска выросла из магических обрядов переходов «жизнь-смерть» [7], маскот близок к магической точке жизненного повседневного пространства, – талисману, только талисман стремится стать схематичным, и часто представлен почти нулевой геометрической формой в семиотическом смысле, а маскот, напротив, схематически выверенный, дизайнерски разработанный до деталей образ. Маска взывает к разоблачению, в отличие от маскота, ценность которого – в сохранении сконструированного образа. Следовательно, практический совет создателям маскота: это должно быть существо, заслуживающее бережного употребления, взывающее к бережности и при этом в чём-то солнечное (например, желтоватая капибара).
В теории Фрейда образ денег необходим как образ избытка, а не компенсации нехватки. Но как раз маскот, будучи цельным, разоблачает деньги как призрачный образ. Когда маскота создают, лепят, ваяют, обычно не думают, сколько стоит его создание, эта мысль приходит в последнюю очередь. Он поэтому как раз освобождается, как призрак, автономи-зируется и от такой механики социального, как деньги. В этом мы и видим главную критическую функцию маскота в современном обществе потребления: он показывает, что деньги не главное, и что солнечность может не подчиняться манипулирующей механике богатства, могут быть поставлены новые рекорды и бескорыстно. Эта критика общества потребления особенно необходима в наши дни.
Этапы развития маскота от автомобильной промышленности (худая борзая на капоте Линкольна или олень на капоте ГАЗа), журнальной (мишка-собачка в шарфике – советский Мурзилка или Крокодил), рок-культура (летающая свинья группы Pink Floyd), Олимпийские игры (Снежинки и Ледок на Туринских зимних играх 2006 года) демонстрируют увеличивающийся масштаб воздействия и территории. Поэтому сейчас создатели маскотов должны думать о том, как маскоты будут выглядеть не только в помещении, но и под открытым небом.
Список литературы Маскот между реальным и цифровым миром
- Жижек Сл. Кукла и карлик. Москва: Европа, 2009. 336 с.
- Зыгмонт А. Образ солнца в философии сакрального Жоржа Батая // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 3 (35). С. 332–359.
- Лотреамон. Стихотворения. Москва: Ад Маргинем, 1998. 674 с.
- Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. Москва: Refl-book, 1994. 416 с.
- Суханова Е. В., Бабкина А. А. Маскот библиотеки: от идеи до воплощения // Библиотека и культурное пространство региона: Материалы Всероссийской научно-практической конференции к 45‑летию кафедры библиотечных и документально-информационных технологий, Пермь, 17–18 декабря 2020 года. Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2021. С. 304–307.
- Чубаров И. Коллективная чувственность: теории и практики левого авангарда. Москва: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014. 344 с.
- Штайн О. А. Маска как форма идентичности. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2013. 160 с.
- Feria-Galicia J. Mascot Politics, Public Pedagogy, and Social Movements: alternative media as a context for critical media literacy // Policy Futures in Education. 2011. Vol. 9. No. 6. Pp. 706–714.
- Preciado P. Pornotopia: An essay on Playboy’s architecture and biopolitics. Princeton: Princeton University Press, 2014. 308 p.
- Schultz B., Sheffer M. L. The mascot that wouldn’t die: A case study of fan identification and mascot loyalty // Sport in Society. 2018. Vol. 21. No. 3. Pp. 482–496.
- Wandel T. L. Brand anthropomorphism: Collegiate mascots and social media // Driving customer appeal through the use of emotional branding. IGI Global, 2018. Pp. 171–193.