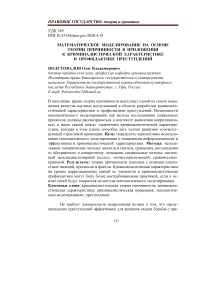Математическое моделирование на основе теории причинности в приложении к криминалистической характеристике и профилактике преступлений
Автор: Полстовалов Олег Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 4-1 (62), 2020 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время теория причинности выступает одной из основ повышения качества научных исследований в области разработки криминалистической характеристики и профилактики преступлений. Возможности математического моделирования как метода исследования социальных процессов должны рассматриваться в контексте выявления корреляционных и иных связей между элементами криминалистической характеристики, которая в этом ключе способна дать толчок развитию соответствующей отраслевой превенции. Цель: определить перспективы использования математического моделирования в повышении информативности и эффективности криминалистической характеристики. Методы: использованы эмпирические методы: анализа и синтеза, сравнения, восхождения от абстрактного к конкретному, описания; специальные методы: системный междисциплинарный подход, логико-юридический, сравнительно-правовой. Результаты: теория причинности показана с позиции сущностных явлений, процессов и фактов. Криминалистическая характеристика на уровне корреляционных связей ее элементов и криминалистическая профилактика могут быть более востребованными практикой, если в основе своей будут опираться на методы математического моделирования.
Криминалистическая теория причинности, криминалистическая характеристика, криминалистическая превенция, математическое моделирование, преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/142232939
IDR: 142232939 | УДК: 349
Текст научной статьи Математическое моделирование на основе теории причинности в приложении к криминалистической характеристике и профилактике преступлений
Не требует доказательств непреложная истина о том, что предупреждение преступлений эффективнее для решения задачи борьбы с пре- ступностью и дешевле для государственного бюджета, чем процессы выявления посягательства, расследования, раскрытия, судебного разбирательства, исполнения приговора по уголовному делу, социальной адаптации отбывшего наказание. Наиболее близко к установлению первопричин преступной деятельности подошла криминалистическая характеристика как информационная обобщенная модель реального среза преступлений определенной категории, направленная на совершенствование поисковопознавательной деятельности следователя, дознавателя по установлению имеющих значение для дела обстоятельств, преодоления противодействия со стороны заинтересованных лиц и пр. И криминалистическая характеристика, и криминалистическая профилактика преступлений в этой связи в опоре на теорию причинности могут выйти из того, казалось бы, безальтернативного цугцванга, в который в последние годы загоняет их небезосновательная критика ученых.
Криминалистическая теория причинности в самом общем виде может быть определена как система знаний, учение о закономерных связях явлений, событий, процессов, фактов и действий, одно из которых выступает в качестве причины, другое – в качестве его следствия, в том числе в виде следов-последствий преступления, отражения результатов преступной деятельности в материальной обстановке и восприятии очевидцев, имеющего значение для теоретической и практической рационализации следственной, прокурорской и судебной деятельности в объективном, полном и всестороннем исследовании события криминального посягательства, установлении виновных в нем лиц и иных значимых обстоятельств, разработки мер профилактики и борьбы с преступлениями конкретного вида.
Отношения «причина – следствие» в криминалистически значимом контексте рационализации следственной, прокурорской и судебной деятельности определяют суть предмета теории причинности, а познаваемая ею объективная реальность – объект изысканий. При этом валидные методы познания объективной реальности и максимальная достоверность отображения наукой действительности остаются залогом успеха. «Причинность и причинно-следственные связи, – справедливо отмечают И.М. Комаров и Е.И. Ян, – всегда находились под пристальным вниманием криминалистов потому, что установление их отношений в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений являлось и является важнейшим элементом системы доказывания, объективно объясняющим существенные обстоятельства возникновения и механизм преступного деяния непосредственно до момента наступления преступного результата» [1, с. 22].
Как представляется, основная проблема невостребованности криминалистической характеристики практикой коренится именно в том, что сам подход исследователей был механистическим, отображающим лишь закономерности между ее элементами по выявленной преступности, оставляя за пределами научных изысканий латентную ее часть. Поэтому криминалистическая характеристика стала подспорьем в раскрытии преступлений «неудачников», чьи криминальные посягательства были выявлены. При этом методология помимо ограниченности по параметрам исследования в основе своей была ущербна и в части самой процедуры изучения дел, где погрешность от общей статистической выборки по мере сокращения до подгрупп практически никто не ставил под сомнение. Как «ручной», так и программный (в части главным образом обработки итоговых данных) методы не давали должного результата по причине того, что не имели ничего общего с математическим моделированием социальных процессов, а при подобном подходе заявлять о выявленных корреляционных зависимостях, полагаем, было преждевременно.
И еще одно ключевое замечание применительно к затрагиваемой проблематике: в устоявшихся взглядах ученых на систему криминалистической характеристики в ее элементарном выражении главенствующая роль была отведена способу совершения преступления, а мотивы нередко выводили за пределы криминалистически значимых, то есть причина и следствие были, мягко говоря, не на своих местах. Опрос сотрудников органов дознания и следствия показал, что среди ключевых вопросов в раскрытии умышленных преступлений одно из ведущих мест (на первое место его поставили 78 % респондентов) занимает вопрос о том, кому это было нужно, и чем руководствовался виновный. Однако внутренняя причина, мотив к совершению преступления в теории порой вообще выходил за пределы сложившейся системы координат криминалистической характеристики.
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о том, как методологически безупречно логику и прагматику преступной деятельности во всем многообразии ее проявлений исследовать так, чтобы полученный материал стал действенной опорой не только для расследования, но и для криминалистической профилактики криминальных посягательств определенного вида. Думается, не стоит изобретать велосипед, а необходимо обратиться к аналогичной исследовательской практике в изучении крупных социальных массивов других наук системы «человек – общество», которые могут быть формализованы в определенных параметрах исследовательских задач и подвергнуты математическому анализу.
Именно математический анализ позволяет обратиться в обобщениях к максимально достоверному отражению единства материального мира, апеллируя к первопричинам, поскольку, как справедливо отмечает А.Н. Боголюбов, «математическая модель должна описывать не только отдельные конкретные явления и объекты, а достаточно широкий круг разнородных явлений и объектов» [2, с. 6]. Рациональность преступного поведения в действительности разная, но ее проявления находят отражение как в предметной следовой среде, материальной обстановке на месте происшествия, так и в сознании очевидцев события, участников посягательства. Закономерности движения всей этой информации от причин, ее предопределяющих, процесса зарождения, отражения в окружающей среде, трансформации, передачи, восприятия, понимания, искажения, восстановления до ее угасания, уничтожения и исчезновения (порой не бесследно) могут быть объяснены с позиций математических моделей, поскольку логика человеческой деятельности, в особенности по умышленным преступлениям, рациональна, хотя не исключает ошибок и огрехов, нестандартного, эвристического подхода.
В свое время автор предлагал на основе методов математического моделирования внедрить практику информационно-аналитического консультирования по ключевым вопросам раскрытия преступлений и организации розыска преступников, поскольку «все социальные процессы поддаются математическому анализу с точки зрения установления степени зависимости между … явлениями, фактами, действиями и личностью» [3, с. 1126]. В США довольно давно активно развивается и финансируется за счет грантов исследование математического моделирования для расчета необходимых мер государственного реагирования, сил и средств надзорных, контролирующих органов и органов правопорядка, к примеру, для борьбы с браконьерством, незаконной порубкой леса и других экологических преступлений. Математическое моделирование экологических преступлений в национальных парках в США стало перспективной областью исследований и привело к конкретным результатам по выявлению на их территориях браконьерства и незаконной вырубки леса, в чем были заинтересованы как власти, так и негосударственные природоохранные организации. В частности, еще в 2010 г. Альберс предложил для правительства модель плотности патрулирования по мере вероятности обнаружения признаков преступления в каждом конкретном месте на основе анализа рациональности преступной деятельности, которая во многом была определена получением максимального криминального результата, с тем чтобы сократить патрулируемые площади, то есть сэкономить силы и сред- ства предупреждения и выявления экологических правонарушений [4]. В отечественной традиции недоказанная гипотеза об избыточном правом регулировании привела к широко распространенной и внедренной в практику концепции регуляторной гильотины, по существу, не до конца обдуманному сокращению присутствия государства и его органов в общественной жизни. Может быть, сначала стоило рассчитать все с точки зрения математических моделей?!
В свете сказанного криминалистическую характеристику преступлений уместно рассматривать в двух ипостасях. Во-первых, как некое авторское научное обобщение на основе изучения актуальной правоприменительной практики и преступной деятельности в выявленной и латентной ее части. Здесь речь идет: 1) о моделях наиболее типичных способов совершения преступлений, заложенных в его основе способах сокрытия криминального характера действий, а также сокрытия следов посягательства постфактум; 2) о характерологических, социально-демографических, социально-ролевых личностных особенностях виновных и потерпевших от посягательств; 3) о мотивах посягательств в их конкретизации к преступным «опредмеченным» намерениям (применительно к умышленным деяниям) и общественно опасному поведению, действий, бездействия (применительно к неосторожным преступлениям); 4) о времени, месте и обстановке совершения преступления. При этом конкретный набор элементов может быть и шире и уже заявленного перечня , поскольку порой расследование ведется без потерпевшего, но невредоносных криминальных посягательств не бывает. Следы-последствия можно рассматривать в контексте механизма преступления, способа совершения посягательства и пр. В этой ипостаси криминалистическая характеристика является традиционной, но в большей степени ориентированной на раскрытие логики преступной деятельности через анализ соответствующей мотивации. Преимущество традиционного подхода заключается в удобном «интерфейсе» обобщений, поскольку практикам важно опираться на изложенный в максимально доступном виде опыт предшественников в определенном аспекте борьбы с преступностью.
Во-вторых, криминалистическая характеристика должна опираться на результаты применения математического моделирования применительно к сложному социальному явлению преступности в ее видовом выражении. Математический анализ позволяет заглянуть в глубинные процессы, обратиться к первопричинам, и криминалистическая теория причинности здесь должна стать подспорьем в решении важнейшей исследовательской задачи. Математическое моделирование тем эффективнее, чем достовернее заложенные изначально исходные данные, упрощения и допущения (имеют наименьшие из возможных погрешности), а сама исследуемая область в принципе поддается такому изучению.
Как известно, сложно просчитать человеческую иррациональность, которая в избытке присутствует в преступной деятельности. При этом определенная логика прослеживается и при совершении неосторожных преступлений, поскольку субъект даже в этих случаях действует в расчете на что-то, то есть априори рационально. К примеру, топ-менеджер компании спешит на деловую встречу и, превысив допустимую скорость, сбивает пешехода, который от полученных травм погибает. В данном случае субъект рассчитывал на свои навыки вождения, которые, по его убеждению, должны были позволить ему избежать дорожно-транспортного происшествия. Такие преступники зачастую забывают, что рискуют не только своим транспортным средством, собственной жизнью и здоровьем, но и безопасностью других людей. В неосторожных преступлениях мы наблюдаем у виновного, как правило, деформацию системы ценностей. Однако именно ввиду этого его поведение полностью иррациональным назвать сложно. Но здесь мы должны говорить не о мотивах преступления, а о мотивах поведения.
Абсолютно иррациональное присутствие в преступном поведении эмоций в виде аффекта также должно учитываться в исследовательских целях. Однако думается, что человеческая глупость и неосмотрительность, как и захлестнувшие и помутнившие рассудок эмоции, до конца просчитываться не могут. И здесь вторая ипостась криминалистикой характеристики как результат приложения усилий по математическому моделированию требует некоторой корректировки. Изначально реализация математических моделей в целом и применительно к социальным процессам в частности имеет определенные сложности, связанные с необходимым упрощением изначальных допущений, которые, в свою очередь, определяют рамки: результат примененной модели не может превзойти заложенные в первом приближении условности [5, с. 375].
Теория криминалистической причинности имеет прямое отношение и к профилактике преступлений во внутриотраслевом научном контексте. Криминалистическая профилактика тем эффективнее, чем ближе к первопричинам криминальных посягательств. И математически смоделированная криминалистическая характеристика, где уже с уверенностью и без ненужной суеты, а не «походя» можно будет заявить о характере выявленных связей и зависимостей между ее элементами, позволит подняться на новый уровень антикриминальной превенции. Именно через математически смоделированную реальность криминалистической характеристики можно добиться наиболее ощутимых результатов в профилактике преступлений.
И.И. Иванов определяет криминалистическую превенцию (профилактику) преступлений в качестве одной из самостоятельных частных теорий, которая «представляет собой систему научных положений и практических рекомендаций о закономерностях разработки и использования в уголовном судопроизводстве технических средств, тактических и методических приемов для предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, своевременного обнаружения, быстрого, полного раскрытия и качественного расследования совершенных преступлений, пресечения конкретной преступной деятельности и ликвидации ее опасных последствий, выявления и устранения в процессе расследования обстоятельств, способствовавших совершению и сокрытию преступлений, преодоления любых форм противодействия расследованию» [6, с. 9]. Думается, что задача по полному раскрытию и качественному расследованию совершенных преступлений вряд ли в полной мере может быть отнесена к области профилактики, но в целом логика развития названной теории из сказанного автором понятна. Более системного определения этого учения в криминалистике пока не дано.
Система математического моделирования может опираться на исходные данные об основных элементах криминалистической характеристики преступлений, о ситуационном подходе в зависимости от складывающихся по результатам обобщения практики значимых для дела обстоятельств, о современном состоянии и качестве методико-криминалистического, тактико-криминалистического и технико-криминалистического обеспечения досудебного и судебного производства по уголовному делу. Особое внимание также должно быть уделено структуре и динамике преступности, степени ее латентности, кадровому обеспечению правоохранительных органов и судов, срокам и порядку реализации процессуально-правовых процедур, степени готовности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда к экстраординарным качественным и количественным метаморфозам преступности, к примеру, в условиях экономического кризиса и пр. Криминалистическая характеристика в этом контексте должна выполнять роль отдельного, системного, максимально реалистичного научно обобщенного отображения преступности. При этом точная работа на профилактику позволит криминалистам сформировать наиболее оптимальные подходы к научно обоснованному прогнозированию эффективности применяемых методов, приемов и средств.
Список литературы Математическое моделирование на основе теории причинности в приложении к криминалистической характеристике и профилактике преступлений
- Комаров И.М., Ян Е.И. Криминалистическая теория причинности: некоторые философские и теоретические основы // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 21-28.
- EDN: YHGTGH
- Боголюбов А.Н. Основы математического моделирования. М.: МГУ, 2003. 137 с.
- Полстовалов О.В. Современная конъюнктура уголовного процесса для экспертной практики и математического моделирования в расследовании преступлений // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17, № 2. С. 1125-1128.
- EDN: PDATTX
- Cartee E., Vladimirsky A. Control-theoretic models of environmental crime // Environmental crime modeling. arXiv:1906.09289v3 [math.OC]. 2020. 2 Mar. P. 1-26. URL: https://arxiv.org/pdf/1906.09289.pdf.
- Михайлов Д.Д. Основы математического моделирования // Вестник технолог. ун-та. Казанск. национальн. исслед. технологич. ун-т. 2015. Т. 2, № 2. С. 374-376.
- Иванов И.И. Криминалистическая превенция (комплексное исследование генезиса, состояния, перспектив): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. 36 с.
- EDN: ZNOZPR