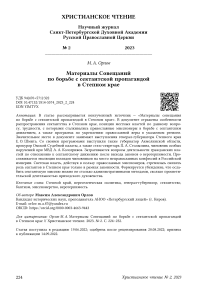Материалы совещаний по борьбе с сектантской пропагандой в Степном крае
Автор: Орлов М.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается неизученный источник - «Материалы совещания по борьбе с сектантской пропагандой в Степном крае». В документе отражены особенности распространения сектантства в Степном крае, позиция местных властей по данному вопросу, трудности, с которыми сталкивались православные миссионеры в борьбе с сектантским движением, а также программа по укреплению православной веры в указанном регионе. Значительное место в документе занимают выступления генерал-губернатора Степного края Е. О. Шмита. Со своими программами выступили также губернатор Акмолинской области, прокурор Омской Судебной палаты, а также статс-секретарь П. А. Столыпина, чиновник особых поручений при МВД А. А. Кологривов. Затрагиваются вопросы деятельности гражданских властей по отношению к сектантскому движению после выхода законов о веротерпимости. Прослеживается эволюция взглядов чиновников на место неправославных конфессий в Российской империи. Светская власть, действуя в пользу православных миссионеров, стремилась снизить роль сектантов в Степном крае только в рамках законности. Формируется убеждение, что ослабить сектантскую миссию можно не столько административными методами, сколько просветительской деятельностью приходского духовенства.
Степной край, переселенческая политика, генерал-губернатор, сектантство, баптизм, миссионерство, веротерпимость
Короткий адрес: https://sciup.org/140301618
IDR: 140301618 | УДК: 94(470+571):322 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_224
Текст научной статьи Материалы совещаний по борьбе с сектантской пропагандой в Степном крае
В 1910-1913 гг. генерал-губернатор Степного края Евгений Оттович Шмит организовал несколько межведомственных совещаний, в которых приняли участие государственные и церковные деятели. Центральной темой совещаний стало определение мер по укреплению православной веры среди русского населения Степного края в связи с усилившимся сектантским движением, в первую очередь баптистским.
Основой источниковой базы данной статьи послужили «Материалы совещания по борьбе с сектантской пропагандой в Степном крае». Данный документ отложился в фонде Пермского епархиального миссионера (Ф. 95) Государственного архива Пермского края (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 1). Вкратце об этом совещании было упомянуто в журнале Церковные ведомости за 1913 г. В небольшой справке говорилось о том, что «23 июля в Омске состоялось многолюдное и продолжительное межведомственное совещание под председательством генерал-губернатора Шмидта по вопросу о мерах борьбы с сектантством в Степном крае». Отмечено, что в основу совещания «легли составленные протоиереем Восторговым и одобренные епископом Омским Андроником обширные записки, посвященные разбираемому вопросу. Записка принята и одобрена во всех подробностях» [Хроника, 1913, 1384]. Статья, опубликованная в «Церковных ведомостях», носила обзорный характер, а потому не отразила большинства вопросов, затронутых в ходе межведомственных совещаний. Всестороннего анализа данного источника нами не встречено, а потому полагаем, что материалы совещаний вводятся в научный оборот впервые.
Во время межведомственных совещаний главным докладчиком выступал Е. О. Шмит. Свой взгляд на конфессиональную ситуацию в России Шмит изложил в нескольких докладах, приготовленных к совещаниям. Идеалом общественного устройства для него являлась христианская империя, тесный союз Церкви и государства, юстинианова «симфония». Гражданская и духовная власти должны совместно противостать растущей роли сектантства, ибо это «интерес государственный, а не церковный только». Е. О. Шмит убежден, что духовной основой российской государственности является православная христианская вера. С особым акцентом он заявлял: «Помогает государство Церкви в этой борьбе (с сектантством. — М. О.) — тем лучше для государства, не помогает — тем хуже для государства же» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 1); «отпади православие — конец Российскому государству» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 25 об.). О русском народе Е. О. Шмит говорил также в русле традиционного патриотизма: «русский народ есть народ воцерковлен-ный и благословенный» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 1).
К новым принципам вероисповедной политики, основанным на указе от 17 апреля 1905 г., генерал-губернатор относился настороженно. В период «Думской монархии» выходили нормативные акты, разъяснявшие положения указа. Разбор этих актов стал одним из пунктов доклада генерал-губернатора. Новое вероисповедное законодательство в глазах Е. О. Шмита «страдает недоговоренностью, неясностью, даже противоречивостью». Так, закон от 17 октября 1906 г. предоставил сектантам право регистрации своих общин. По мнению Е. О. Шмита, необходимо было вводить не право, а обязанность регистрации, что позволило бы вести более точный учет сектантов. Законы, касающиеся вероисповедания, Е. О. Шмит называет «неясными» и даже «противоречивыми». В частности, это относилось к циркуляру Департамента Духовных дел от 10 марта 1910 г. Данный нормативный акт не позволял четко разграничить православных от сектантов. Генерал-губернатор указывал, что по смыслу циркуляра «можно быть сектантом и одновременно числиться православным» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 5).
Глава Степного края обратил внимание на коллизии в законодательстве. После революционных событий 1905-1907 гг. правовая система Российской империи выстраивалась на новых принципах религиозной политики. В их основу был положен принцип веротерпимости с правом представителям неправославных конфессий вести миссионерскую деятельность на территории страны. Для России это было оформление новой правовой системы, сильно отличающейся от предыдущего религиозного законодательства. Важно заметить, что правовые акты, выходившие после указа от 17 апреля 1905 г., издавались в связи с революционными потрясениями. Это значит, что к новым принципам религиозной политики власти пришли не от теоретических построений, а наоборот, события революции, с которыми неожиданно столкнулись правящие круги империи, заставили обратиться к идее терпимости. Поэтому неудивительно, что в законодательстве встречались коллизии, т. е. противоречия одних норм другим по одному и тому же регулируемому вопросу. На это и делал акцент генерал-губернатор. Так, циркуляр Министерства внутренних дел от 14 апреля 1910 г. осуждал присутствие православных на собраниях сектантов. Однако циркуляр того же министерства, направленный атаману Войска Донского, гласил: «факт присутствия православных на сектантских молитвословиях или богослужениях не может быть признан незакономерным, ибо с предоставлением православным свободы отпадения от православия, им, очевидно, принадлежит и право ознакомления с избранными ими вероученями»1 (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 14).
В одном из докладов Шмит указывал на противоречивость статистических данных о сектантах. В 1911 г. из Акмолинской области на имя генерал-губернатора поступил отчет о количестве баптистов, которых оказалось около 10 тысяч2. Но генерал-губернатор представил данные Департамента Духовных дел иностранных исповеданий. Оказалось, что по всей России всего баптистов было около 11 тысяч. Из этого Шмит сделал следующий вывод: «По-видимому, у нас отсутствует правильная регистрация сектантства» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 4). Таким образом, обнаруживалось противоречие: либо явно были завышены данные по Акмолинской области, либо сведения общероссийского масштаба значительно занижены. Возможно, генерал-губернатор хотел показать этим практическую опасность прозелитизма баптистов и теоретическую неосведомленность правящих кругов о состоянии сектантского движения в России.
Иллюстрацией противоречивости статистических данных о сектантах могут служить отчеты архиереев о состоянии дел по Омской епархии. В 1916 г. численность сектантов всех «толков» в Омской епархии составляла около 10 тысяч. Опубликовавшая эти данные Т. К. Никольская полагала, что они явно завышены [Никольская, 2004, 176]. Однако, если обратиться к данным, которыми располагало губернское правление Шмита, с таким мнением вряд ли можно согласиться. Если в одной Акмолинской области проживало 10 тысяч сектантов, то по всей Омской епархии их должно было быть намного больше, т. к. Акмолинская область являлась частью епархии наряду с Семипалатинской областью. Поэтому можно предположить, что в 1916 г. действительная численность сектантов была выше, чем представлено в архиерейском отчете. Данный вывод является не утверждением, а предположением, т. к. статистические данные, касающиеся населения Степного края, относительны. Это было связано с постоянным притоком и оттоком переселенцев.
Причины появления сектантства . Е. О. Шмит указал на несколько факторов, способствовавших распространению сектантства. Одни были связаны с процессом колонизации, другие — с особенностями православной культуры в Степном крае. Первая предпосылка — появление в крае немецких колонистов. Шмит считал грубой ошибкой генерал-губернатора барона Таубе предоставление немцам права селиться в Степном крае. При этом он добавил, что в свое время Омский епископ Григорий (Полетаев) выступал против такого разрешения, «но голос его не был услышан». Особое внимание генерал-губернатор обратил на переселенцев из Таврической губернии и Северного Кавказа, которые преимущественно являлись штундистами. Они были людьми зажиточными, что позволяло им нанимать русских на работы, а это приводило к смене религиозных взглядов русского населения от православия к сектантству (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д . 46. Л. 7).
Еще одна причина — переселенческое движение русских из центральных губерний России. По мнению Е. О. Шмита, переселенец из Центральной России из-за малоземелья был «фигурой озлобленной». Генерал-губернатор связывал социальную неудовлетворенность с духовной доминантой, ибо «озлобленный великоросс… падок на всякие отрицательные учения». Более того, в глазах Шмита переселенец — это тип особый, либерал по существу, «элемент не консервативный», а потому склонный «к новшествам, к оппозиции, к самомнению и гордыне» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 7). В качестве предпосылки появления и распространения сектантства было заявлено также развитие железных дорог, которые давали удобные средства для переселения баптистов и штундистов.
Вторая группа причин была связана с особенностями православия в регионе, ведением миссионерской деятельности среди «инородцев» и «иноверцев», а также с сущностью вероучений сектантов. Одной из главных причин быстрого распространения баптизма являлась разбросанность православных приходов на большие расстояния. По подсчетам Шмита, на одного православного священника приходилось до 4 тыс. прихожан, в то время как у баптистов на одного пресвитера — 30-40 человек. Это приводило к тому, что православный священник становился «только исправным тре-боисправителем» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 9). Стоит заметить, что данная проблема не являлась специфичной для Степного края и Сибири. В Волжско-Уральском регионе большинство православных приходов также было разбросано на значительном расстоянии друг от друга. Это давало мусульманским проповедникам возможность вести успешную пропаганду среди местных новокрещеных.
Быстрое распространение баптизма, по мнению генерал-губернатора, было вызвано самой сущностью этой религии: «баптизм и адвентизм, по существу своему, насквозь пропитаны духом прозелитизма» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 9). Во время межведомственного совещания, состоявшегося 21 апреля 1910 г., указывалось, что баптисты со времени появления в Каинском уезде вели активную пропаганду своего учения среди православных, заходили в дома русских, внушая оставить «идольские капища» — так они называли православные храмы. Двое сектантов, Григорий Прокудин и Степан Гуров, «умоляли со слезами на глазах оставить идолопоклонство, веровать в живого Бога… становились даже на колена, упрашивая православных вступить в общество святых баптистов». По призыву баптистских проповедников некоторые православные стали сжигать иконы и различными способами глумиться над образами (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 22-23). Подобные факты встречались и в других регионах России. В Пермской епархии в с. Савинском Оханского уезда баптистка Пелагия Позднякова убеждала православных не поклоняться иконам (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 26. Л. 28). В Иркутской епархии баптисты убеждали православных, что «не следует кланяться изделию рук человеческих» [В баптистской моленной, 1913, 464-465]. Проповедник Одесской общины евангельских христиан-баптистов Васильев призывал слушающих не поклоняться «предметам», ибо это есть нарушение первой и второй заповедей Божиих (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 272. Л. 1 об.).
Для баптистов вопрос об иконах имел принципиальное значение. Последователи этого учения не признавали искусства, которое изображает духовный мир. Речь в данном случае шла не о бытовой стороне вопроса. Известно, что возможность изображения Бога (например, икона Св. Троицы прп. А. Рублева), ангелов, святых согласна с догматическим определением VIII Вселенского Собора. Отцы собора поставили точку в длительном споре о Воплощении Иисуса Христа. Именно догмат о Воплощении определил пути развития христианского искусства в сторону его обогащения за счет зрительных образов. Таким образом, отказ от христианского искусства есть, в свою очередь, отказ от признания догмата о Воплощении Иисуса Христа, новозаветного учения о богочеловечестве.
Баптисты старались в любом месте и в любой форме вести проповедническую деятельность. Когда в середине XIX в. в германских землях появились баптисты, то практически все последователи этого исповедания были распространителями своих идей.
Это могли быть даже обычные ремесленники, которые, получив права священства, проповедовали, крестили, причащали, распространяли Библию везде, где это было только возможно [Энциклопедический словарь, 1891, 25]. В России баптисты тоже вели активную проповедь. Священник одного из приходов Оренбургской епархии В. Канторский отмечал, что баптисты всегда стараются вести беседы с православными и склонить их к своей вере. Для этого у них наготове Евангелие, из которого, по выражению священника, баптисты читали православным «отборные стихи» [Канторский, 1910, 232]. В Пермской епархии, согласно донесению епархиального миссионера, «штундо-баптистские вожаки» устраивали собрания, во время которых раздавали народу «сектантские листочки и Св. Евангелие» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 26 Л. 1–1 об.). В Осинском уезде «штундо-баптисты» разъезжали по ярмаркам и знакомили православных со своим учением (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 5. Л. 4). В Воронежской епархии баптисты пропагандировали в самых людных местах, на базарах и в лавочках [Поражение баптизма, 1914, 952].
Письма баптистов, сохранившиеся в архиве Департамента полиции, подтверждают тезис о миссионерском характере баптизма. Из переписки баптистов Таврической губернии: «Давно в нашей местности обращали на себя внимание болгаре; работа среди этого народа была слишком трудная и даже, как будто недоступная, но, по воле Бога, 8 ноября 1909 г. мною был принят чрез Святое Крещение один болгар в нашу общину» (ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. Оп. 240. Д. 85. Л. 2). Бакинские баптисты отмечали, что у русских, проживавших в Кубинском уезде (Бакинская губерния), «большая жажда к слушанию слова Божия. На это местечко нужно обратить особенное внимание» (ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. Оп. 240. Д. 85. Л. 1 а). Можно сказать, что прозелитизм был особым пафосом баптизма. Во время молитвенных собраний баптисты молились за всех распространителей брошюр и книг, за всех «братьев-авторов и издателей» баптистских книг (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 332. Л. 11 об.).
Затем Е. О. Шмит перешел к особенностям содержания духовенства в православии и в баптизме. Генерал-губернатор отметил, что духовенство баптистов не содержится своими прихожанами. Сторонники этого вероучения были свободны от «стеснительных формальностей при браках, погребении» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 9–10). Глава Степного края хотел сказать, что в православных приходах того времени при регистрации религиозных актов слишком много внимания уделялось делопроизводству, плате прихожан священникам за совершение различных треб. В какой-то мере генерал-губернатор прав, указывая на относительную простоту баптистской общины. Заметим, забегая на несколько десятилетий вперед, что здесь, однако, еще далеко до вывода о наличии коммунистических начал в баптизме. Характерен пример деятельности Вятского собрания Евангельских христиан в 1920-е гг. Во время заседаний члены сообщества постоянно декларировали добровольность пожертвований на различные нужды для проповедников и миссионеров. Вместе с тем настойчиво, хотя и в деликатной форме, осуществлялся призыв посылать к «братиям и сестрам» (замечательное заимствование из православно-церковной практики) «воспитателей», которые должны были вразумлять членов сообщества баптистов «щедро участвовать в поддержке» Совета Евангельских христиан (ЦГАКО. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 230. Л. 18 об.).
С достаточным основанием генерал-губернатор полагал, что главной причиной ослабления позиций православия в Степном крае были, собственно, сами православные. Е. О. Шмит с глубокой скорбью заявлял, что православные не знают своей веры, незнакомы со Словом Божиим (т. е. Св. Писанием. — М. О. ), имеют множество суеверий, даже самых простых молитв не знают. Нетвердая религиозность русских переселенцев, по мнению Е. О. Шмита, была тесно связана с самим процессом переселения. В процессе переселения традиции воцерковленности, присущие «коренной России», приходят в забвение. Из Центральной России русские приносили разные церковные обычаи. Даже священники не могли «спеть вместе всенощную, так как у них разнообразные напевы и даже обычаи службы» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 10).
Конечно, в условиях огромных просторов Российской империи при изучении ментальности верующих важно учитывать региональные особенности. Но в этом случае показателен следующий пример, указывающий на то, что социальные различия отходят на второй план, уступая место духовному единству. В 1892 г. в Москве состоялось празднование 500-летия памяти прп. Сергия Радонежского. Крестный ход собрал верующих из разных уголков России. Современник так вспоминал эти события: «Одна мысль, одна молитва одушевляла эту неисчислимую толпу, придавала ей жизнь, сливала всех отдельных лиц в громадное целое, имя которому Русская земля». В этом торжестве рука об руку шли крестьянки с «элегантными дамами», безграмотные с учеными профессорами, и все «с одинаковыми благоговением к великому празднику» [Громыко, Буганов, 2000, 33]. Это событие продемонстрировало, как верующие, приехавшие в Москву из разных губерний России, имевших весь спектр региональных духовных традиций, объединились вокруг главного — почитания памяти великого русского святого. Подобного единения можно было ожидать в любом регионе России, если бы там имелась харизма, способная собрать воедино разрозненных пришельцев. Такой харизмой мог стать любой ревностный миссионер, приходской священник или даже архиерей. Здесь не лишним было бы привести пример епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича). В Китае он образовал единую общину, состоявшую из русских переселенцев, приезжавших из разных регионов России.
Е. О. Шмит предложил довольно обширную программу, направленную на укрепление православия в Степном крае. Она предусматривала открытие новых православных приходов; разделение причтов с одновременным перераспределением средств между богатыми и бедными приходами; увеличение жалованья священникам, которые занимались миссионерской деятельностью; учреждение крестных ходов, поддержку паломничеств, монастырей; проведение опросов для определения численности сектантов; развитие в православных прихожанах знания об истинах своей веры; открытие съездов, проведение публичных чтений, религиозных собраний с общенародным пением; раздачу литературы в народе; усиление надзора гражданского начальства за баптистскими пресвитерами; повышение роли полиции в деле контроля за появлением новых сектантов. В заключение генерал-губернатор с особым акцентом призывал «перейти из обороны в наступление» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 16–19).
Из этой программы видно, что Шмит стремился действовать не только административными мерами, но и просветительскими. Об этом свидетельствуют такие пункты, как открытие новых приходов, поднятие образовательного уровня православных, поддержка монастырей, паломничеств, раздача литературы. Главным действующим лицом должен был стать приходской священник, которого необходимо обеспечить материально, освободить от унизительной зависимости от прихожан, в целом «поднять пастыря на высоту». Генерал-губернатор признавал, что только просвещенный пастырь может одолеть «особое сектантское настроение». Под этим понятием Е. О. Шмит подразумевал пограничное состояние русского православного народа Степного края, стоявшего на грани отпадения от Церкви (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 6).
Вместе с тем оставалось определенное место администрации, которая должна была пресекать противозаконные действия сектантов. Е. О. Шмит особо подчеркивал, что полиция и губернская администрация могли действовать только в рамках законности. Органы власти должны были обеспечить исполнение законов, не допуская произвольного применения административных мер. (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 30). Генерал-губернатор пытался внушить мысль, что сектантов можно победить не репрессивными мерами, а словом пастыря, «обличать заблуждения сектантов, звать их к ответу пред лицом вечной истины православия» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 18); «задача служить примером духовного совершенства, прежде всего, лежит на самом духовенстве: „врачу, исцелися сам“» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 27).
Во время межведомственных совещаний был заслушан доклад акмолинского губернатора3. Им было отмечено, что баптисты, действовавшие в Степном крае, имели тесные связи со своими единоверцами из Петербурга. Столичные баптисты посылали особые бланки для раздачи православным. В этих бланках заранее были составлены формы заявлений об отпадении от Церкви. Губернатор указывал на случаи «глумления над святыми иконами, крестом и храмом». Была также заявлена тема об объединении «всех рационалистических сект в борьбе с православной Церковью» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 23 об. — 24). В других регионах России этот вопрос находил свое отражение в дискуссиях о сектантах. Вятский миссионер священник Иоанн Мара-кулин писал губернатору, что на состоявшемся в Филадельфии в 1911 г. II конгрессе сектантов русская секция заявила свою готовность вести борьбу с самодержавием и православием во имя «демократии и братства». Делались призывы совместными усилиями изменить «старые Церкви» (ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 132. Л. 16 об.).
В ходе заседаний высказывались мнения, не соответствовавшие общему «анти-сектантскому настроению» собравшихся во дворце генерал-губернатора. Так, прокурор Омской судебной палаты В. В. Едличко не согласился с выступавшими в том, что местные власти потворствуют сектантам. Прокурором было отмечено, что многие обвинения в адрес сектантов не подкреплены фактами, а потому, по его словам, «страдают крайней неопределенностью». Необходимо отметить, что В. В. Едличко, как представитель власти, не был, конечно, сторонником сектантов. Он подчеркивал, что «права господствующей Церкви строго охраняются действующим законом» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 24 об. — 25).
Заслуживает особого внимания записка чиновника особых поручений при МВД А. А. Кологривова, который в то время являлся статс-секретарем П. А. Столыпина. Она была зачитана на межведомственном совещании, состоявшемся 1 июля 1911 г. Главной темой записки стал вопрос о противостоянии баптизму. Кологривов отмечал, что борьба с баптизмом должна осуществляться только в рамках закона, без применения насилия, т.к. последнее противоречило бы провозглашенной свободе совести. Прежде всего это просвещение — «подъятие православия и удовлетворения нравственно-духовных запросов народа». Статс-секретарь призывал «воссоздать утрачивающуюся привлекательность православия», развивать самостоятельность в народе, поднимать миссию (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 32–32 об.).
А.А. Кологривов указывал на то, что баптизм «есть единственное в России общество благочестия на религиозной почве, куда можно сокрыться от греховной, безбожной, пьяной жизни окружающей среды». Чиновник писал, что баптисты окружают себя «ореолом мученичества». Это и является привлекательным для вступающих в него адептов из православия, однако сущность учения баптизма для русских неофитов «темна» точно так же, «как темно было ранее исповедуемое родное православие» (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 31 об.).
Еще одной чертой баптизма, особо отмеченной А. А. Кологривовым, был антимилитаризм баптистов (ГАПК. Ф. 95. Оп. 1. Д. 46. Л. 32). Стоит заметить, что тема отношения баптистов к войне стала весьма острой на тот момент времени. В Пермской епархии миссионеры доносили, что баптисты с началом войны с Германией стали вести пропаганду среди русского населения в пользу «царя Вильгельма»; иные сектанты призывали русских не стрелять в немцев. Такие призывы велись на военных заводах Перми. В частности, на пушечном Мотовилихинском заводе баптисты вели антимилитаристскую пропаганду среди рабочих (ГАПК. Ф 199. Оп. 1. Д. 30. Л. 96–96 об.). Во время собраний баптистов звучали призывы «любить врагов ваших» — в том смысле, что отказаться от несения оружия (ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 132. Л. 17 об.). Тема антимилитаризма и пангерманизма баптистов особо была рассмотрена известным миссионером начала XX в. И. Айвазовым [Айвазов, 1915а; Айвазов, 1915б].
Межведомственные совещания, организованные генерал-губернатором Степного края Е. О. Шмитом, отразили сложности, с которыми встретились гражданские и церковные власти в период либерализации правительственного курса в деле регулирования межконфессиональных связей. Местным властям необходимо было приспосабливаться к новым условиям, считаться с правом неправославных подданных вести свою миссионерскую работу. Такая «перестройка» должна была вызвать новый творческий подъем у православных миссионеров. Были церковные иерархи, которые принципы свободы совести и веротерпимости признавали за благо для православной миссии. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) отмечал, что в новых условиях миссионеры «должны иметь точку опоры только в своих нравственных силах», не прибегая к внешнему принуждению, как это было до указа 1905 г. [Никольская, 2004, 172]. Иные считали, что гражданские власти не должны допускать распространения сектантства в России. Так, миссионер по Вятской епархии свящ. Иоанн Маракулин убедительно просил вятского губернатора не допускать открытия новых молитвенных собраний баптистов, так как это будет не в интересах православной веры и государства (ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 132. Л. 19).
Гражданские чины Степного края во главе с генерал-губернатором Е. О. Шмитом, по всей видимости, были ближе ко второй точке зрения. Так, Е. О. Шмит полагал, что Российское государство может существовать только в союзе с Православной Церковью. Вместе с тем красной нитью им проводится мысль, что власти в отношении неправославных подданных должны действовать, не нарушая законодательства о свободе совести и веротерпимости.
Список литературы Материалы совещаний по борьбе с сектантской пропагандой в Степном крае
- Айвазов (1915а) — Айвазов И. Пангерманизм и баптизм. Пг.: В. М. Скворцов, 1915. 16 с.
- Айвазов (1915б) — Айвазов И. Баптизм — орудие пангерманизма. М.: Печ. А. Снегиревой, 1915. 28 с.
- В баптистской моленной (1913) — В баптистской моленной // Иркутские епархиальные ведомости. 1913. № 14-15. С. 464-467.
- ГАПК — Государственный архив Пермского края. Ф. 95. Оп. 1. Д. 5. Д. 26.; Д. 46.; Ф. 199. Оп. 1. Д. 30.
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 240. Д. 85.
- Громыко, Буганов (2000) — Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа / Ин-т этнологии и антропологии РАН. М.: Паломник, 2000. 541 с.
- Канторский (1910) — Канторский В. У баптистов // Оренбургские епархиальные ведомости. 1910. № 14. С. 22-233.
- Никольская (2004) — Никольская Т. К. Русский протестантизм на этапе утверждения и легализации (1905-1917гг.) // Богословськ роздуми: Схщноевропейський журнал богослов'я. 2004. №4. С. 161-181.
- Поражение баптизма (1914) — Поражение баптизма // Воронежские епархиальные ведомости. 1914. № 35. С. 952-956.
- РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф.821. Оп.133. Д.272; Д. 332.
- ЦГАКО — Центральный государственный архив Кировской области. Ф.583. Оп.604. Д. 132.; Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 230.
- Хроника (1913) — Хроника // Церковные ведомости. Прибавления к церковным ведомостям. 1913. № 30. С. 1384.
- Энциклопедический словарь (1891) — Энциклопедический словарь: в 82 т. / Под ред. Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1891. Т. 3. 480 с.