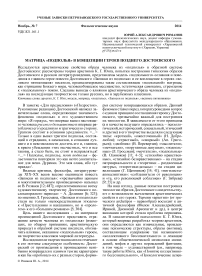Матрица «подполья» в концепции героев позднего Достоевского
Автор: Романов Юрий Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Исследуются архетипические свойства образа человека из «подполья» в образной системе Достоевского: рассмотрены теория архетипов К. Г. Юнга, попытки построения типологии образов Достоевского в русском литературоведении, представлены модель «подпольного» сознания и поведения в главном герое повести Достоевского «Записки из подполья» и ее воплощение в героях «великого пятикнижия» писателя, проанализированы такие составляющие «подпольной» матрицы, как отрицание Божьего мира, человекобожеское мессианство, эстетическая самоказнь, стремление к «подпольному» покою. Сделаны выводы о влиянии архетипического образа человека из «подполья» на последующее творчество не только русских, но и зарубежных классиков.
Архетип, к. г юнг, модель, матрица, "подполье", "записки из подполья", "великое пятикнижие"
Короткий адрес: https://sciup.org/14750746
IDR: 14750746 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Матрица «подполья» в концепции героев позднего Достоевского
В заметке «Для предисловия» («Подросток». Рукописные редакции) Достоевский написал замечательные слова, определяющие значимость феномена «подполья» в его художественном мире: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. <…> Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! <…> Подполье, подполье, поэт подполья – фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда»1.
Видные критики, философы, литературоведы XIX–XX веков высоко оценивали повесть «Записки из подполья»: «чрезвычайно ценным и многозначительным произведением» называл ее В. Розанов [12; 487]; «пролегоменами ко всему художественному творчеству Достоевского по-слекаторжного периода» – А. Долинин [6; 323]; по мнению Л. Гроссмана, «Записки из подполья» стали не только «непосредственным этюдом» к «Преступлению и наказанию», но и «прологом» к его «большим романам» [5; 304].
Цель нашего исследования – на материале произведений Достоевского представить отражение качеств человека из «подполья» (имеющих, по общему признанию, архетипическую природу) в образной системе писателя, обозначить влияние, оказанное «подпольным» героем, на творчество классиков мировой литературы.
Исследователи творчества писателя отмечают в его поэтике следующую особенность: Достоевский от произведения к произведению неизбывно возвращался к одним и тем же характерам и как бы «пробовал» их с разных сторон, форми- руя систему возвращающихся образов. Данный феномен ставил перед литературоведами вопрос о едином принципе соотношения героев у Достоевского, чрезвычайно важный для построения их типологии. В зависимости от этого принципа (а в качестве ведущего определялись – психологический, исторический, социальный, этический и другие) в его творчестве выделяли следующие типы: «кроткий», «ожесточенный» (Н. Добролюбов); «страстный», «смирный» (Ап. Григорьев); «двойник» (В. Переверзев); «мыслители», «мечтатели», «поруганные девушки», «подпольные» (Л. Гроссман); «мечтатели», «подпольные» (В. Одиноков) [11; 4–5]; «стихийно нравственные», «стихийно безнравственные» – на стадии патриархальности и «теоретики – раздвоенные натуры», «теоретики-дельцы» – на стадии цивилизации (Г. Щенников) [14; 41]; «нигилисты-апокалиптики»: «соблазнители от революции» и «те, кто революцией соблазнен» (Г. Зябрева) [9; 55] и др.
На наш взгляд, данные попытки построения типологии образов Достоевского свидетельствуют о возможности вычленения архетипических свойств в его героях. Термин «архетип» (от греческого archetipos – первообраз) восходит к античной философии (Филон Александрийский, Ириней, Дионисий Ареопагит и др.), в центре внимания которой стояла проблема первоначала. В «аналитической психологии» К. Г. Юнга, который впервые разработал теорию архетипов, они определяются как изначальные, врожденные психические структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого «коллективного бессознательного» и лежащие в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов и других порождений фантазии, в том числе – художественной (см., например, такие работы Юнга, как «Понятие коллективного бессознательного», «Психологические аспек- ты архетипа матери» и др. [15]). Определяя понятие архетипа, Юнг неоднократно подчеркивал его надперсональную природу и исключительно формальный, а не содержательный характер. Архетипы – это не сами образы, а лишь схемы образов, их психологические предпосылки, их возможность. Содержательную характеристику первообраз мог получить лишь тогда, когда, актуализируясь в сознании, наполнялся материалом сознательного опыта. Так, выделяя архетип матери, Юнг отмечал, что данный архетип, подобно всякому другому, «имеет воистину невообразимое множество аспектов», и перечислял только некоторые типичные формы: «мать или бабушка конкретного человека, крестная мать или свекровь и теща», «кормилица и нянька», «в высшем, переносном смысле – богиня, особенно мать Бога», «в более широком смысле – церковь, университет, город, страна», «в более узком смысле – место рождения или происхождения – пашня, сады, утес, пещера, дерево» и проч. [15; 128–129]. Другие архетипы Юнга – Тень (репрезентация негативной стороны Эго или тех свойств личности, которые сознание предпочитает не замечать), Трикстер (Плут, Обманщик), Анима/Анимус (женское начало в мужчине и мужское – в женщине), Ребенок (нечто вырастающее в самостоятельность), Дух (репрезентируется как в образах мудрого старца, так и злого колдуна, и др.).
Как отмечает С. Аверинцев, хотя Юнг и «попытался наметить систематику архетипов», он все же «недостаточно последовательно раскрывал взаимозависимость мифологических образов как продуктов первобытного сознания и архетипов как элементов психических структур, понимая эту взаимозависимость то как аналогию, то как тождество, то как порождение одних другими» [1; 110–111]. Поэтому в позднейшей литературе данный термин используется «просто для обозначения наиболее общих, фундаментальных и общечеловеческих мифологических мотивов, изначальных схем представлений, лежащих в основе любых художественных, и в том числе мифологических, структур уже без обязательной связи с юнгианством как таковым» [1; 111].
В современном литературоведении отмечается важность архетипного подхода для понимания русской литературы как части мировой культуры и для литературоведческого исследования в целом. Так, была выдвинута гипотеза о «наличии особого пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры» и рассмотрено его «проявление» в романе «Преступление и наказание» [7; 357]; отмечается, что такие категории, как « соборность », « закон » и « благодать », хотя и «не новы в тезаурусе русской духовной мысли, но впервые стали категориями филологического анализа» [8; 5].
По нашему убеждению, архетипические качества человека из «подполья», составляющие «подпольный» мотив в повести «Записки из подполья» и отраженные в художественном мире Достоевского, выражены следующим образом:
– человека из «подполья» отличает трагическое восприятие жизни, обостренное внимание к негативным ее сторонам, что ставит его вне общества, обида на жизнь делает его ранимым аутсайдером, трагическим одиночкой;
– противостоит трагедии бытия в сознании «подпольного» героя «”прекрасное и высокое”» (5; 132), в духовное бегство к которому и устремляется герой повести. С высоты «”прекрасного и высокого”» «непосредственные люди и деятели» (5; 101) оказываются презренно низки; в человеке из «подполья» рождается стремление изменить их жизнь в соответствии с собственным эстетическим идеалом, подчиняя всех своей воле («подпольный» герой мнит себя «Наполеоном», «деспотом в душе» (5; 140));
– в жизни действительной человек из «подполья» осознает собственное несоответствие идеалу и потому предает себя жестокой самоказни, которая носит эстетический характер: в собственном унижении для героя заключается «сок <…> странного наслаждения» (5; 105) «от слишком яркого сознания своего унижения» (5; 102);
– подверженный страсти добровольного самоуничижения, герой оказывается выброшенным из общества и испытывает нравственное отчуждение от Божьего мира; происходит глубинное неприятие и провозглашается проклятие его, что приводит к разложению всех человеческих качеств и постепенной гибели героя в духовной изоляции – «подполье» [13; 44–48].
Как предположил А. Бем, название повести Достоевского восходит к пушкинским строкам из «Скупого рыцаря»: «…может быть слова Альбера: “…пускай отца заставят меня держать, как сына, не как мышь, рожденную в подполье…” нашли свое неожиданное отражение в заглавии “Записок из подполья”» [2; 213].
Слово «подполье» употребляется в повести впервые в связи с неизбывным сравнением «подпольного» героя себя с «мышью» и противопоставлением своему «антитезу» – «непосредственному человеку и деятелю», не обладающему «усиленным сознанием» и опирающемуся на чувство «живой жизни»: «…если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты <…> то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя <…> добросовестно считает за мышь, а не за человека. <…> Положим, например, она (мышь. – Ю. Р.) тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. <…> Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Не- счастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уж нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда <…> состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей <…> хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой <…> постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость» (5; 104). При этом «мышь» персонифицирует яркие «подпольные» черты: обиду на мир, злобу, мстительность, упоение сознанием собственного унижения. «Мышь» в художественном мире Достоевского возникает там, где речь идет о каком-либо антихристианском поступке. Так, одержимый «бестиальными наклонностями» Свидригайлов, накануне совершения самоубийства оказавшийся в «отдаленном нумере» гостиницы, «душном и тесном», под лестницей в «углу», переживает «скверное» ощущение, когда во сне-забытьи у него за пазухой, под рубашкой «шоркает по телу» «мышь» (6; 390). Петр Верховенский – «политический честолюбец», щедро наделенный «хлестаковскими чертами» (12; 204), чье «уродство», по мнению Достоевского, не достойно «литературы» (29. 1; 141) – являет собой карикатурное отражение практики ставрогинского, оторвавшегося от Бога ума, совершил чудовищное святотатство – «пустил мышь» в икону Богоматери (10; 428).
Отправной точкой алгоритма «подпольной» мысли служит отрицание. Не принимая основ Божьего мироздания, поднимая бунт против него, «подпольное» сознание жаждет насильственного изменения мира и отводит себе при этом мессианскую роль. В «подпольных» мечтаниях о «”прекрасном и высоком”» герой «Записок…», словно представитель высшего разряда людей, идет «проповедовать новые идеи», буквально в роли Наполеона разбивает «ретроградов под Аустерлицем» (5; 133); «деспот в душе», он желает «неограниченно властвовать» (5; 140). C большой силой «подпольный» деспотизм выражен в образе Раскольникова, чью исходную ситуацию в романе часто называют «подпольной». Он вынашивает идею Наполеона, чтобы «взять во власть» презираемое им общество, властвовать над ним, не зная «никаких средств» (7; 155). То, как «подпольное» мессианство неизбежно приводит к сатанизму – высшей форме антихристианского состояния, гениально изображено Достоевским в романе «Бесы»: ведь «благо, несовместимое с бытием Бога и любовью к Нему», предпочитаемое Сатаной, – это «быть самому
Богом, быть выше Бога – вот притязание гордыни сатанинской» [10; 68], и многие герои романа по-своему одержимы этой гордыней.
Отводя для себя мессианскую роль, герой «Записок из подполья» в то же время ясно осознает свое несоответствие идеалу и подвергает себя самоказни, которая «обращалась» в «решительное, серьезное наслаждение» от «сознания своего унижения» (5; 102). «Подпольная» само-казнь – еще одна яркая черта архетипической модели «подпольного» сознания. Самоказни в художественном мире Достоевского предаются многие – Раскольников, Мармеладовы, Ганя Иволгин, Лебедев, Ипполит Терентьев, Аркадий Долгорукий. Природа самоказни с особой силой раскрыта в образе Настасьи Филипповны, чье «болезненное наслаждение от сознания своего позора» (14; 62) приводит к невозможности духовного возрождения. «Беспрерывное» сознание своего позора, таящее «ужасное неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то» (8; 362), делает невозможным для нее нравственное восхождение стезею Сони Мармеладовой. Испытывая духовную усталость от самоказни, от ношения масок ради того, чтобы скрыть свое истинное «я», герой «Записок…» впадает в крайнее духовное отчуждение – «подполье», обрекая себя на «нравственное растление в углу» (5; 178).
Мотив отрицания Божьего мира достигает наивысшего накала в характере самого сильного из выведенных Достоевским «отрицателей» – Ивана Карамазова. «Я не Бога не принимаю <…> я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять», – настойчиво повторяет Иван в исповедальном разговоре с Алешей (14; 214). Проецируя «подпольную» матрицу на образ Ивана, нетрудно заметить совпадения, позволяющие говорить о выраженности в нем «подпольных» черт:
– как и «подпольного» героя, Ивана отличает критическое отношение к Божьему миру, основывающееся на обостренном внимании к проявлению морального уродства окружающих, о чем свидетельствует собранная им «коллекция» «некоторых фактиков»: о турках, со сладострастием мучивших и убивавших детей; о мужике, с остервенением бьющем клячонку по плачущим «кротким глазам»; о том, как «образованный господин и его дама» секли «собственную дочку»; о «девчоночке маленькой, пятилетней», запертой «в холод, в мороз» возненавидевшими ее родителями «в подлом месте»; о мальчике, «всего восьми лет», затравленном стаей генеральских борзых на глазах у матери (14; 217–221);
– если «подпольный» человек противополагает уродливому миру свой моральнонравственный идеал «”прекрасного и высокого”» в образе «героя», над всеми торжествуя и всех прощая (5; 132–133), то Иван Карамазов прямо осуществляет притязание «гордыни сата- нинской», обращаясь к Богу на равных, обвиняя Бога в страдании невинных детей, не принимает Божий мир;
– причиной самоказни Ивана, как и у человека из «подполья», выступает несоответствие героя своему идеалу (в частности, примером этому могут служить отношения Ивана со Смердяковым, напоминающие нравственные турниры «подпольного» героя со своим слугой Аполлоном). Заключая в себе непомерное тщеславие, гордыню, человекобожество, Иван в то же время признает, что он – «клоп» – в состоянии мыслить только «земным», «эвклидовским» умом и что «правда <…> не от мира сего» ему «непонятна» (14; 222). В осознании этого – доходящая до наслаждения самоказнь и эстетизация ее. Иван понимает, что существующий порядок вещей, в его же собственной трактовке, лишь только «эвклидовская дичь» и жить по ней он не сможет «согласиться» (14; 222), точно так же, как не мог согласиться герой «Записок из подполья» с непрерывно обижавшими его «законами природы» – «каменной стеной» (5; 105). Потому-то в поэме «Великий инквизитор» Иван нравственно и приравнивает себя к инквизитору, который, оставаясь «со страданиями неотомщенными» (14; 223), смог побороть свободу и «сделал так для того, чтобы сделать людей счастливыми» (14; 229). (На связь инквизитора с «подпольем» указывает его собственное признание о том, что люди, «промучившись тысячу лет со своей башней (Вавилонской. – Ю. Р. )», «принесут свою свободу к ногам нашим» (14; 230–231) и «отыщут нас» « под землей, в катакомбах (курсив наш. – Ю. Р. )» (14; 230).) Эстетизация самоказни достигает наивысшего накала, когда инквизитор открыто объявляет о том, что, взяв в руки меч кесаря и отвергнув Христа, они пошли за Антихристом (14; 235) и «все будут счастливы», но только «управляющие ими» и «хранящие тайну» будут «несчастны» (14; 236). Алеша камня на камне не оставляет от Ивановой эстетики, говоря, что за нею стоит «самое простое желание» власти и благ «безо всяких тайн и возвышенной грусти…», а также о том, что инквизитор «не верует в Бога», в чем и «весь его секрет» (14; 237–238);
– говоря о том, что «спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла» (14; 232), и о том, что «надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения», «вести людей уже созна- тельно к смерти и разрушению» (14; 238), Иван фактически констатирует «подпольность» своей духовной жизни. Алеша, безмерно сожалея об Ивановом неверии, «с чрезвычайною скорбью» горюет об «аде» («подполье») в его «груди и в голове» (14; 239).
Таким образом, в характере Ивана отображен полный спектр составляющих «подпольного» духодвижения: трагическое восприятие Божьего мира, бунт против него; противопоставление ему идеалов «”прекрасного и высокого”», то есть человекобожество; острое осознание собственного несоответствия возвышенному идеалу и потому – жестокая самоказнь; наконец, глубокое духовное отчуждение и следование «уже сознательно к смерти и разрушению».
Отметим также функциональную близость «Записок из подполья» и поэмы «Великий инквизитор»: обе задуманы как высказывание «богохульства» (15; 481). И если ответ на это в «Записках из подполья» уничтожили, по выражению Достоевского, «свиньи цензора» (5; 375), то ответом на поэму Ивана послужила следующая – шестая книга «Братьев Карамазовых» – «Русский инок» (15; 482). При этом сам Достоевский поочередно называл каждую из этих книг – «Pro и con-tra», вмещающую поэму «Великий инквизитор», и «Русский инок» – «кульминационною» (30. 1; 66, 102) и относил к несомненным творческим удачам, по праву гордился ими. Таким образом, была изображена не только одна, по выражению Достоевского, «подпольная нигилятина», но и «опровержение богохульства» (30. 1; 68, 66).
Отражение модели «подпольного» сознания и поведения в художественном мире Достоевского позволяет говорить о нем как о важнейшем факторе, оказавшем значительное влияние не только на формирование образной системы писателя в целом, но и на выражение центральной проблемы его творчества, состоящей, по мысли А. Бема, в «преодолении замкнутости личности через приобщение к живому потоку жизни» [3; 190].
Художественное воплощение Достоевским феномена «подполья» оказало большое влияние на дальнейшее развитие не только русской, но и мировой литературы. Повесть «Записки из подполья», как «пролог к литературе ХХ века» [4; 112], стала предтечей появления «подпольных» людей, нашедших свое отражение в творческом наследии Л. Андреева, А. Белого, А. Ремизова, Ж.-К. Гюисманса, А. Жида, У. Фолкнера, Р. Эллисона [4; 370] и многих других.
Romanov Yu. A., National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute” (Kharkov, Ukraine)
Список литературы Матрица «подполья» в концепции героев позднего Достоевского
- Аверинцев С. С.Архетипы//Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1: А-К. М., 1980. С. 110-111.
- Бем А. Л. Достоевский -гениальный читатель//Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском: Сб. статей под ред. А. Л. Бема/Сост., вступ. ст. и коммент. М. Магидовой. М.: Русский путь, 2007. С. 206-218.
- Бем А. Л. Достоевский: Психоаналитические этюды. Берлин, 1938. 192 с.
- Гарин И. И.Многоликий Достоевский. М.: ТЕРРА, 1997. 396 с.
- Гроссман Л. П.Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1963. 544 с.
- Долинин А. С.Достоевский и Герцен (К изучению общественно-политических воззрений Достоевского)//Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы/Под ред. А. С. Долинина. Пб.: Мысль, 1922. С. 275-324.
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 349-362.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы//Евангельский текст в русской литературе ХѴШ-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 5-30.
- Зябрева Г. А. Русский характер и русская революция. Логика взаимодействия//Русистика Украины. 2001. № 2. С. 43-57.
- Лосский Н. О. О природе сатанинской (по Достоевскому)//Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы/Под ред. А. С. Долинина. Пб.: Мысль, 1922. С. 67-92.
- Одиноков В. Г.Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981. 145 с.
- Розанов В. В. Одна из замечательных идей Достоевского//Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях/Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. С. 487-494.
- Романов Ю. А. Комментарии к повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья»: Учебно-метод. пособие для студентов гуманитарного профиля. Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. 56 с.
- Щенников Г. К.Художественное мышление Ф. М. Достоевского. Свердловск, 1978. 176 с.
- Юнг К. Г. Бог и бессознательное. М.: Олимп: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. 480 с.