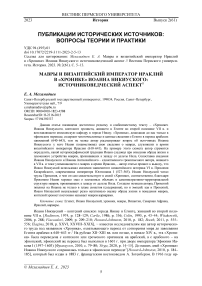Мавры и византийский император Ираклий в "Хронике" Иоанна Никиуского: источниковедческий аспект
Автор: Мехамадиев Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Публикации исторических источников: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена достаточно редкому и слабоизвестному тексту - «Хронике» Иоанна Никиуского, коптского хрониста, жившего в Египте во второй половине VII в. и возглавлявшего епископскую кафедру в городе Никиу. «Хроника», дошедшая до нас только в эфиопском переводе, содержит многочисленные и ценные сведения о Египте в период арабских завоеваний (640-643), тем не менее автор рассматривает вопрос об источниках Иоанна Никиуского: у кого Иоанн позаимствовал свои сведения о маврах, служивших в армии византийского императора Ираклия (610-641). На примере этого сюжета автор стремится определить, какой историографической традиции Иоанн следовал при описании образа жизни и племенного устройства мавров, проживавших к западу от дельты Нила. Сопоставив сведения Иоанна Никиуского и Иоанна Антиохийского - единственного грекоязычного автора, жившего в VII в. и тоже упоминающего о маврах в армии Ираклия, - автор статьи пришел к выводу, что Иоанн Никиуский использовал сведения знаменитого византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского, современника императора Юстиниана I (527-565). Иоанн Никиуский читал труды Прокопия, о чем он сам свидетельствует в своей «Хронике», соответственно, благодаря Прокопию Иоанн хорошо знал о племенных обычаях и административно-территориальной структуре мавров, проживавших к западу от дельты Нила. Согласно позиции автора, Прокопий повлиял на Иоанна не только в плане сюжетов (содержания), но и эмоций: как и Прокопий, Иоанн Никиуский высказывает резко негативную оценку образа жизни и поведения мавров, коптский хронист постоянно называет мавров варварами.
Египет, иоанн никиуский, хроники, мавры, византия, северная африка, ираклий, варвары
Короткий адрес: https://sciup.org/147246480
IDR: 147246480 | УДК: 94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-5-13
Текст научной статьи Мавры и византийский император Ираклий в "Хронике" Иоанна Никиуского: источниковедческий аспект
ландско-британский библеист Р. Чарльз подготовил по изданию А. Зотенбера английский перевод «Хроники», который мы и будем цитировать в данной статье (Chronique de Jean…,1883; The Chronicle of John…, 1916).
Соответственно, мы хотели бы рассмотреть сведения Иоанна Никиуского, освещающие военную деятельность византийского императора Ираклия (610–641), точнее – роль и положение мавританских племенных ополчений, вошедших в состав армии Ираклия в 609 г., когда он присвоил себе и своему отцу, Ираклию-старшему, титул консула [ Kaegi , 2003, p. 40– 42]4 и поднял восстание против императора-узурпатора Фоки, с 602 г. правившего в Константинополе. Племенные ополчения мавров не только поддержали мятеж Ираклия и вошли в состав его армии в самой Северной Африке, но и последовали за ним в Константинополь, где он высадился 3 октября 610 г., уничтожил Фоку и уже через четыре дня, 7 октября, был провозглашен новым императором по решению константинопольского Сената и патриарха.
Таким образом, этнические отряды мавров с самого начала мятежа представляли собой одну из основных боевых сил армии Ираклия, вместе с маврами он прибыл в Константинополь и разгромил там Фоку. Тем не менее нас интересует не событийная история конфликта, а вопрос об источниках Иоанна Никиуского: мы хотели бы определить источник, из которого Иоанн позаимствовал свои сведения о маврах в армии Ираклия. Говоря шире, мы хотели бы установить, какой историографической традиции Иоанн придерживался при изложении сведений о маврах, служивших в армии Ираклия, какая историографическая традиция повлияла на Иоанна при создании образа этих мавров.
Итак, по словам коптского хрониста: «В то самое время появился [и] Ираклий (старший. – Е. М. ), который раздал большие деньги варварам Триполи и Пентаполиса5 и благодаря этому уговорил их помочь ему в войне. Затем он собрал командующего своими силами по имени Бонакис вместе с 3000 человек и большим количеством варваров и отправил их в Пентаполис ждать его там»6. Более того, Иоанн Никиуский хорошо знал и об особенностях внутреннего племенного (административно-территориального) устройства мавров, поддержавших Ираклия-старшего и его сына: «И подобным же образом, в силу приверженности к Ираклию, жители региона Триполи в Африке привели кровожадных варваров [в эту землю]. Ведь они (жители Триполи и Пентаполиса. – Е. М. ) ненавидели Фоку… и когда эти варвары прибыли, они (жители Триполи и Пентаполиса. – Е. М. ) начали войну на территории Африки и присоединились к Ираклию-старшему. И великий префект провинции Триполи по имени Кисил прибыл к Никите (племяннику Ираклия-старшего, также примкнувшему к мятежникам. – Е. М. ) с большой помощью… И Ираклий-старший отправил своего сына Ираклия-младшего в город Византий на кораблях и с большой силой варваров, чтобы напасть на Фоку»7.
Подчеркнем, что Иоанн упоминает префекта провинции Триполи (Триполитании), некоего Кисила, и, на наш взгляд, эти слова заслуживают отдельного внимания. Дело в том, что еще в I в. н.э., т.е. в период ранней империи (принципата), римляне учредили в провинциях Северной Африки должность префекта племени ( praefectus gentis ) – специального чиновника, возглавлявшего то или иное племя мавров; мавры, подчинявшиеся таким префектам, жили в пределах римских провинций и защищали их границы от нападений внешних племен, проживавших, наоборот, за пределами провинций и не подчинявшихся римской администрации [ Le-veau , 1973, p. 175; Lepelley , 1974, p. 287–288]. Как показал К. Цукерман, на рубеже IV–V вв. римляне стали назначать префектами племен непосредственно представителей самих этих племен, т.е. выходцев из племенной аристократии мавров, более того, на основании данных эпиграфики исследователь проследил, что должность префекта племени непрерывно продолжала существовать в Северной Африке и далее, вплоть до начала VII в. – и при вандалах (429–534), и при византийской власти (с 534 г.) [ Zuckerman , 1998, p. 379].
Соответственно, мы полагаем, что Кисил, упоминаемый в «Хронике» Иоанна Никиуско-го, как раз и был одним из таких префектов: мавр по происхождению, он возглавлял своих соплеменников не просто как их племенной вождь8, но и на основании должности префекта племени, которую он получил от местной византийской администрации. А значит, Иоанн Никиу-ский был хорошо осведомлен о подобных реалиях: он понимал, какой властью обладал Кисил и какие полномочия тот выполнял. Другими словами, епископ из Никиу разбирался в особенно- стях византийской бюрократии в Северной Африке и знал, как византийские власти взаимодействовали с племенной элитой мавров.
Примечательно, но единственный собственно византийский (грекоязычный) автор, живший в VII в. и упоминающий о маврах в армии Ираклия, – Иоанн Антиохийский - в своей хронике не сообщает столь подробных сведений о деятельности мавританских отрядов: он ограничивается лишь коротким замечанием, что «у Ираклия было большое количество мавров»: εἶχε δὲ Ἡράκλειος Μαυριτῶν πλῆθος πολύ (Ioannis Antiocheni fragmenta..., 2005, p. 552, l. 23–24 (fr. 321)). При этом следует подчеркнуть, что Иоанн Антиохийский не высказывает каких-либо негативных, гневных оценок деятельности мавров: он говорит только о самом факте участия мавританских племенных ополчений в военной кампании Ираклия. Наоборот, слова Иоанна Ни-киуского содержат весьма резкую, отрицательную характеристику образа жизни мавров: во-первых, епископ из Никиу называет мавров «кровожадными», даже несмотря на то, что они воевали на стороне Ираклия, а во-вторых, в одной из предшествующих глав своей хроники, посвященной правлению императора Маврикия (582–602), коптский хронист четко пишет, что «варвары в земле Нубии и Африки называются мавританцами, а другие называются мариками», тем самым прославляя одного из греческих (византийских) военачальников Египта, Аристома-ха, за победу над этими маврами9.
Другими словами, мы можем заключить, что Иоанн Никиуский воспринимал мавров, обитавших к западу от дельты Нила, довольно враждебно, тогда как краткая заметка Иоанна Антиохийского лишена каких-либо оценочных, эмоциональных суждений и сообщает читателю исключительно нейтральную, фактологическую информацию. Соответственно, возникает закономерный вопрос об источниках Иоанна Никиуского: у какого автора Иоанн позаимствовал свои довольно подробные сведения о племенной жизни мавров и кто повлиял на тональность его рассуждений о маврах? В связи с этим логично поставить и вопрос о том, почему Иоанн Антиохийский, наоборот, никак не критиковал мавров, примкнувших к Ираклию?
Прежде всего, рассмотрим вопрос об Иоанне Антиохийском, что, в свою очередь, позволит прояснить и вопрос об Иоанне Никиуском. В современной исследовательской литературе, представленной работами У. Роберто, С. Мариева и П. ван Нуффелена, сложились две точки зрения относительно датировки и контекста создания хроники Иоанна Антиохийского, а также относительно личности самого этого автора: С. Мариев и П. ван Нуффелен полагают, что подлинный, «настоящий» Иоанн Антиохийский жил в первой четверти VI в. и написал свою хронику до правления императоров Юстина I (518–527) и Юстиниана I (527–565), поскольку, по их мнению, он завершил текст на событиях времен императора Анастасия I (491–518). Соответственно, как заключают С. Мариев и П. ван Нуффелен, в начале VII в., между 610 и 640 гг., некий анонимный автор, проживавший в Константинополе, продолжил труд Иоанна Антиохийского, доведя его до событий 610 г. – в таком виде хроника сохранилась до времен византийского императора Константина VII Багрянородного (945–959), поручившего группе константинопольских ученых сделать выписки из данной хроники, равно как и из многих других подобных текстов. Как известно, именно эти фрагментарные извлечения сохранились до наших дней: оригинал хроники Иоанна Антиохийского к настоящему времени утрачен, рукописная традиция донесла до нас этот текст только во фрагментах, сами же фрагменты своим содержанием охватывают события от сотворения мира до 610 г. (с почти полным отсутствием сведений по периоду 518–598 гг.) [ Mariev , 2016, p. 255; Mariev , 2006, S. 537–538; Nuffelen , 2012, p. 445, 447–449]10.
-
У. Роберто, наоборот, полагает, что Иоанн Антиохийский написал свой труд именно в начале VII в., между 610 и 626 гг. Цель же хрониста, по мнению У. Роберто, заключалась в том, чтобы прославить нового императора Ираклия за победу над узурпатором Фокой: как считает исследователь, Иоанн Антиохийский даже видел в Ираклии восстановителя древних ценностей и свобод республиканского Рима [ Roberto , 2016, p. 271, 278; Roberto , 2015, p. 218; Roberto , 2010, p. 115, 122, 127; Ioannis Antiocheni fragmenta…, 2005, p. XI–XVIII]11.
Следовательно, даже несмотря на то, что оригинальный (полный) текст хроники Иоанна Антиохийского дошел до нас только во фрагментах, само это фрагментарное изложение содержало сведения вплоть до 610 г., а значит, итоговый (финальный) вариант текста, написанный в начале VII в., в любом случае сообщал о событиях вплоть до восшествия на престол императора Ираклия в октябре 610 г. Как результат, мы можем предположить, что хронист, живший в начале VII в. (реальный Иоанн Антиохийский или автор, скрывавшийся под его именем), не мог критиковать мавров, поддержавших Ираклия и прибывших вместе с ним в Константинополь: этот хронист написал свой труд при Ираклии, во время его правления, поэтому любая критика действий мавров или в целом образа их жизни разрушила бы положительный образ самого Ираклия, командовавшего ими. В случае же с Иоанном Никиуским мы можем говорить о совершенно другом военно- и даже геополитическом контексте: во-первых, коптский хронист написал свой текст уже в конце VII в., много лет спустя после смерти Ираклия, а во-вторых, Египет во времена Иоанна Никиуского находился уже под властью арабов, а не Византии, соответственно, у Иоанна Никиуского не было особой необходимости прославлять византийскую императорскую власть и связанные с ней структуры управления.
Итак, поскольку Иоанн Никиуский не стремился возвеличивать мавров как союзников Ираклия, нам важно определить, у кого все же Иоанн позаимствовал свои сведения об их племенной жизни. Мы полагаем, что таким автором был знаменитый византийский историк Прокопий Кесарийский, современник Юстиниана I. Соответственно, источником знаний Иоанна о маврах послужил труд Прокопия «Война с вандалами», повествующий о военных кампаниях Велизария и других военачальников Юстиниана против вандалов и мавров в Северной Африке в 533–548 гг. Прежде всего, подчеркнем, что Иоанн Никиуский прямо упоминает Прокопия и тем самым отчетливо свидетельствует, что он читал труды византийского историка, а значит, и использовал их сведения при создании своей хроники. Как отмечает Иоанн, «Юстиниан заключил мир с персами и завоевал вандалов. И эти великие победы были подробно изложены Агафи-ем (имеется в виду другой знаменитый историк, Агафий Миринейский, также живший в VI в. – Е. М. ), одним из прославленных ученых города Константинополя, и подобным же образом – ученым человеком по имени Прокопий Патрикий (патриций. – Е. М. ). Он был человеком большого ума и префектом12, чей труд хорошо известен»13.
Поскольку труд Агафия Миринейского («Истории»), во-первых, охватывает события с 552 по 559 гг., т.е. более поздний период, чем у Прокопия (Прокопий завершает изложение войн Юстиниана на 552–553 гг.) [ Martindale , Vol. IIIB, 1992, p. 1064, sv. Procopius 2], и, во-вторых, не содержит каких-либо сведений о Северной Африке (сюжеты Агафия – войны Византии с остготами в Италии, с персами на ближневосточном фронте и на Западном Кавказе, а также с гуннами на дунайском фронте [ Treadgold , 2007, p. 284–286]), мы можем признать слова Иоанна Никиуско-го об Агафии фактической ошибкой, вполне логичной для хрониста, жившего за пределами Византии. Применительно же к Прокопию мы можем утверждать, что Иоанн Никиуский был обязан византийскому историку не только сведениями о племенной жизни мавров, но и самими эпитетами, связанными с маврами, а значит, и критическим настроем по отношению к ним.
Обратимся к сведениям Прокопия о событиях, произошедших в Северной Африке весной 534 г. [ Martindale , Vol. IIIB, 1992, p. 1169–1170, sv. Solomon 1]. Речь идет о восстании нескольких мавританских племен, проживавших в провинциях Нумидия (соответствовала территории между городами Константина и Тебесса на севере современного Алжира) и Бизацена (центральная часть современного Туниса), и ранее, в 533 г., заключивших союз с Византией. По словам Прокопия, «Маврусии же, которые жили в Бизацене и Нумидии, замыслили [поднять] восстание без какой-либо причины и внезапно решили начать войну с Ромеями, нарушив договоры. И они поступили так в силу своего образа [жизни]. Ведь у Маврусиев нет ни страха перед богом, ни стыда перед людьми. Ведь их не волнуют ни клятвы, ни заложники, среди которых находились дети и братья их вождей. Мир для Маврусиев не имеет совершенно никакого [значения], если они не сдерживаются своими врагами» (Μαυρούσιοι δὲ, ὅσοι ἔν τε Βυζακίῳ καὶ Νουμιδίᾳ ᾤκηντο, ἐς ἀπόστασίν τε ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς εἶδον καὶ τὰς σπονδὰς διαλύσαντες χεῖρας ἀνταίρειν ἐξαπιναίως ῾Ρωμαίοις ἔγνωσαν. καὶ τοῦτο οὐκ ἄπο τρόπου τοῦ οἰκείου σφίσιν ἐπράσσετο. ἔστι γὰρ ἐν Μαυρουσίοις οὔτε θεοῦ φόβος οὔτε ἀνθρώπων αἰδώς. μέλει γὰρ αὐτοῖς οὔτε ὅρκων οὔτε ὁμήρων, ἢν καὶ παῖδες ἢ ἀδελφοὶ τῶν ἐν σφίσιν ἡγουμένων τύχωσιν ὄντες. οὐδὲ ἄλλῳ οὐδενὶ εἰρήνη ἐν Μαυρουσίοις, ὅτι μὴ τῶν πολεμίων τῶν κατ' αὐτῶν δέει κρατύνεται) (Procopii Caesariensis opera…, Vol. I, 1962: Proc. BV. II. 8. 9–11).
Более того, давая восставшим маврам крайне негативную характеристику, Прокопий, так же как и Иоанн Никиуский, активно использует эпитет «варвары»: «…внезапно взявшись за оружие, они (мавры. – Е. М.) произвели в Ливии всевозможные виды разорений. Ведь немного- численные воины, [находившиеся] на границах каждой земли, еще не были подготовлены и не могли противостоять повсюду нападающим варварам…» (τὰ ὅπλα ἐξαπιναίως ἀράμενοι ἅπασαν κακοῦ ἰδέαν ἐς τοὺς Λίβυας ἐπεδείξαντο. οἱ γὰρ στρατιῶται ὀλίγοι τε ἐν ἑκάστῃ ἐσχατιᾶς χώρᾳ καὶ ἔτι ἀπαράσκευοι ὄντες, καταθέουσιν οὐκ ἂν εἶχον πανταχόσε τοῖς βαρβάροις ἀνθίστασθαι) (Procopii Caesariensis opera…, Vol. I, 1962: Proc. BV. II. 8. 20–21). И здесь, и далее в ходе своего рассказа о восстании Прокопий постоянно применяет этот термин, что вполне отчетливо свидетельствует о его отношении к маврам, но вместе с тем византийский историк не упускает возможности упомянуть и о различных обычаях мавров, что, в свою очередь, показывает его подробные и достаточно глубокие знания об их племенной организации и жизни.
Как утверждает Прокопий, «[согласно обычаям] этого народа, мужчине не дозволено прорицать, но женщины, одержимые во время какого-нибудь жертвоприношения, предсказывают им (маврам. – Е. М. ) о том, что произойдет в будущем, – ничуть не меньше оракулов древности» (ἄνδρα γὰρ μαντεύεσθαι ἐν τῷ ἔθνει τούτῳ οὐ θέμις, ἀλλὰ γυναῖκες σφίσι κάτοχοι ἐκ δή τινος ἱερουργίας γινόμεναι προλέγουσι τὰ ἐσόμενα, τῶν πάλαι χρηστηρίων οὐδενὸς ἧσσον) (Procopii Caesariensis opera…, Vol. I, 1962: Proc. BV. II. 8. 13). Опять же, по словам Прокопия, «у Мавру-сиев есть обычай, чтобы в военный поход отправлялись и некоторые женщины вместе с детьми, эти [женщины и дети] строят у них ограждения и хижины, они сведущи в уходе за лошадьми и заботятся о пропитании верблюдов» (τοῖς γὰρ Μαυρουσίοις καὶ γυναῖκας ὀλίγας ξὺν τοῖς παισὶν ἐς παράταξιν ἐπάγεσθαι νόμος, αἵπερ αὐτοῖς χαρακώματά τε καὶ καλύβας ποιοῦσι, καὶ ἱπποκομοῦσιν ἐμπείρως, καὶ τῶν τε καμήλων τῆς τε τροφῆς ἐπιμελοῦνται) (Procopii Caesariensis opera…, Vol. I, 1962: Proc. BV. II. 11. 18).
Как проследили Д. Парнелл и Т. Штиклер, Прокопий в целом использует эпитет «варвар» весьма ситуативно: если какой-то народ, заключивший союзный договор с империей ромеев, хранил верность этому договору, хорошо служил империи и защищал ее интересы, Прокопий отзывался о представителях этого народа исключительно благосклонно, но в том случае, когда соседние народы или племена нарушали условия договора, нападали на земли империи и причиняли ей вред, Прокопий сразу же «вспоминал» всю отрицательную риторику, связанную с варварством, обвиняя представителей таких племен в дикости и необразованности и тем самым противопоставляя их ромеям (грекам, византийцам) [ Parnell , 2015, p. 818–820, 822–824 (на примере племен, проживавших в то время на Балканах – герулов и гуннов); Stickler , 2019, S. 155–156, 158, 160, 162–163, 169, 171–173 (на примере народов, населявших Западный и Южный Кавказ – лазов, иберов, т.е. грузин, цанов и авасгов)].
Тем не менее мы можем признать, что Прокопий, так же как и Иоанн Никиуский, довольно четко и последовательно формировал на страницах своего труда негативный образ мавров, он определенно стремился представить мавров как врагов римского (ромейского) мира, нарушителей спокойствия и разрушителей имущества ромеев. Соответственно, поскольку Иоанн Никиуский демонстрирует в своей хронике знакомство с трудами Прокопия, мы можем уверенно заключить, что именно сведения Прокопия послужили источником знаний Иоанна о маврах: именно Прокопий повлиял на коптского хрониста в создании образа мавров как варваров-грабителей, нападавших на мирных жителей византийских провинций.
Список литературы Мавры и византийский император Ираклий в "Хронике" Иоанна Никиуского: источниковедческий аспект
- Французов С.А. Хроника Иоанна Никиуского: некоторые особенности языка и содержания // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2010. Вып. 4 (22). С. 77-86.
- Booth Ph. Shades of Blues and Greens in the Chronicle of John of Nikiou // BZ. 2011. Bd. 104/2. P.555-601.
- Carile A. Giovanni di Nikius, cronista bizantino-copto del VII secolo // Byzantium: tribute to Andreas N. Stratos. Vol. II. Theology and Philology. Athen: Nia A. Stratos, 1986. P. 353-398.
- Colin G. L'Égypte pharaonique dans la Chronique de Jean, évêque de Nikiou // Revue d'Égyptologie. 1995. Vol. 46. P. 43-54.
- Elagina D. The Textual Tradition of the Chronicle of John of Nikiu: Towards the Critical Edition of the Ethiopie Version. PhD Diss. Universität Hamburg, 2018. cvi + 125 p.
- Fiaccadori G. John of Nikiou // Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History / ed. by D. Thomas, B. Roggema. Vol. I. Leiden-Boston: Brill, 2009. P. 209-218.
- Kees H. Pentapolis // RE. NB / Hrsg. von W. Kroll. Bd. 37. Stuttgart: Alfred Druckenmüller, 1937. Col. 509-510.
- Howard-Johnston J. Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford: University Press, 2010. 573 p.
- Kaegi W.E., jr. Heraclius: Emperor of Byzantium. Cambridge: University Press, 2003. 359 p. Lepelley Cl. La prefecture de tribu dans l'Afrique du Bas-Empire // Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston. Paris: de Boccard, 1974. P. 285-295.
- Leveau Ph. L'aile II des Thraces, la tribu des Mazices et les praefecti gentis en Afrique du Nord // Antiquités africaines. 1973. Vol. 7. P. 153-191.
- Mariev S. John of Antioch reloaded: a tutorial // Die Weltchronik des Johannes Malalas. Bd. I: Autor -Werk - Überlieferung. / Hrsg. von M. Meier, Chr. Radtki, F. Schulz. Stuttgart: Franz Steiner, 2016. P. 253-266.
- Mariev S. Neues zum "Johanneischen Frage"? // BZ. 2006. Bd. 99/2. S. 535-549.
- Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. IIIA: A.D. 527-641. Cambridge: University Press, 1992. 760 p.
- Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. IIIB: A.D. 527-641. Cambridge: University Press, 1992. 813 p.
- Modéran Y. Les Maures et l'Afrique romaine (IVe - VIIe siècle). Paris: École française de Rome, 2003. 900 p.
- Nuffelen P. van. John of Antioch, inflated and deflated. Or: how (not) to collect Fragments of early Byzantine Historians // Byzantion. 2012. Vol. 82. P. 437-450.
- Parnell D.A. Barbarians and Brothers-in-Arms. Byzantines on barbarian Soldiers in the sixth Century // BZ. 2015. Bd. 108/2. P. 809-826.
- Roberto U. John Malalas as a source for John of Antioch's Historia Chroniké. The Evidence of the Ex-cerpta historica Constantiniana // Die Weltchronik des Johannes Malalas. Bd. I: Autor - Werk - Überlieferung. / Hrsg. von M. Meier, Chr. Radtki, F. Schulz. Stuttgart: Franz Steiner, 2016. P. 267-286.
- Roberto U. Research Prospects on John of Antioch. Notes on the Edition by S. Mariev // JÖByz. 2010. Bd. 60. P. 115-128.
- Roberto U. Teosofia pagana e cronaca universale Cristiana: Giovanni Malala e Giovanni di Antiochia // L'historiograhie tardo-antique et la transmission des saviors. / Éd. par Ph. Blaudeau, P. van Nuffelen. Berlin: Walter de Gruyter, 2015. P. 209-225.
- Rodinson M. Notes sur le texte de Jean de Nikiou // IV Congresso Internationale di Studi Etiopici (Roma, 10-15 aprile 1972). Tomo II: Sezione Linguistica. Roma: Academia Nazionale dei Lincei, 1974. P.127-137.
- Stickler T. Der Transkaukasische kriegsschauplatz bei Prokop // Iberien zwischen Rom und Iran: Beiträge zur Geschichte und Kultur Transkaukasiens in der Antike. / Hrsg. von U. Hartmann. Stuttgart: Franz Steiner, 2019. S. 153-177.
- Treadgold W. The early Byzantine Historians. Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan, 2007. 431 p.
- Windberg Fr. Tripolitana // RE. NB. Zweite Reihe (R-Z). / Hrsg. von W. Kroll und K. Mittelhaus. Bd. 13. Stuttgart: J.B. Metzler, 1939. Col. 210-212.
- Witakowski W. Ethiopic Universal Chronography // Julius Africanus und die christliche Weltchronistik / Hrsg. von M. Wallraff. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006. P. 285-301.
- Yirga F.-S. The Chronicle of John of Nikiu: Historical Writing in Post-Roman Egypt. PhD Diss. Ohio State University, 2020. 209 p.
- Zuckerman C. Épitaphe d'un soldat africain d'Héraclius servant dans une unité indigène, découverte à Constantinople // Antiquité Tardive. 1998. Vol. 6. P. 377-382.