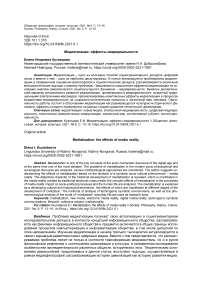Медиатизация: эффекты медиареальности
Автор: Елена Игоревна Кузнецова
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
Медиатизация – одно из ключевых понятий социогуманитарного дискурса цифровой эпохи и вместе с тем – одно из наиболее дискутируемых. В статье анализируется проблематика медиатизации в современном социально-философском и социологическом дискурсе, рассматриваются различные методологические подходы к анализу проблемы. Предлагается осмысление эффектов медиатизации на основании анализа символического социокультурного феномена – медиареальности. Выявлен диалектический характер исторического развития медиатизации, проявившийся в медиареальности, созданной традиционными электронными массмедиа; проанализированы комплексные эффекты медиатизации в процессах воздействия медиареальности на социально-политические процессы и жизненный мир человека. Оригинальность работы состоит в обосновании медиатизации как развивающегося культурно-исторического феномена, эффекты которого проявляются на разных стадиях развития техногенной цивилизации.
Медиатизация, новые медиа, электронная медиареальность, цифровая медиареальность, техногенные символические коммуникации, жизненный мир, коллективный субъект, институциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134185
IDR: 149134185 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24158/fik.2021.6.1
Текст научной статьи Медиатизация: эффекты медиареальности
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия, ,
Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia, ,
Введение . Проблема медиатизации получает свою актуализацию в социогуманитарном исследовательском дискурсе в контексте концепций информационного общества, рассматривается как феномен информационного общества и предметно включается в общие границы исследования процессов компьютеризации и информатизации общества, в том числе дискуссий по этим направлениям. Изучение медиатизации в начале третьего тысячелетия актуализируется в связи с взрывным развитием новых цифровых медиа . Вместе с тем представляется, что рассматриваемая проблема лежит не только в контексте трансформации медиасистемы, но и в русле философской рефлексии о соотношении цивилизации и культуры, в направлении исследования особенностей жизнедеятельности различных обществ, исторических эпох. Теоретическим основанием размышлений, предлагаемых в данной статье, выступают подходы, осуществляемые в рамках медиафилософии, рассматривающие историю цивилизаций как историю развития медиа.
В качестве исследовательского инструментария приняты методы анализа техногенных символических сред, а также феноменологический анализ мира «медиатизированной» повседневности.
Проблематика медиатизации в современном научном дискурсе . В социогуманитар-ных исследованиях понятие «медиатизация» относится к весьма востребованным, оно до сих пор выступает предметом дискуссий, что отражает современная отечественная и зарубежная научная литература [1]. Вместе с тем в исследовательском дискурсе представлено обобщенное понимание медиатизации как процесса и результата формирующего влияния массмедиа на общественные отношения, социальные практики и институты посредством медиатехнологий, в ходе которого «конструируется» особая медиасоциальная реальность. Сложились различные методологические подходы к анализу проблемы. Следуя институциональному анализу, медиатизация представляет собой адаптацию различных систем и областей (социальных, политических, религиозных и т. д.) к логике СМИ [2]. В рамках методологии социального конструктивизма медиатизация понимается как процесс, в котором эволюция информационно-коммуникационных технологий приводит к преобразованиям в коммуникативном конструировании культуры и общества [3]. В то же время представители обеих традиций разделяют общий взгляд: медиатизация отражает взаимосвязь между изменением средств массовой информации и коммуникации, с одной стороны, и изменением культуры и общества – с другой. Большую исследовательскую рефлексию получила концепция «медиатизированных миров», где роль медиа признается «формирующей силой», что дает возможность рассматривать процесс медиатизации как изменение трансмедиальных коммуникативных конфигураций, с помощью которых и конструируются миры [4]. Анализ концепции медиатизированнных миров осуществляется в ряде работ [5]. Вместе с тем выдвинутое Ф. Кротцем утверждение, что медиатизация представляет собой социальный метапроцесс в ряду таких, как глобализация, индивидуализация и коммерциализация [6], вызвало возражение об отсутствии подтверждающих свидетельств социально-исторических изменений на протяжении веков [7].
В ряду исследовательских сегментов одним из аспектов выделяется проблема социокультурных последствий медиатизации и ее влияния на внутренние аспекты деятельности медиасистемы: особенности функционирования телевидения в новых условиях и фиксация снижения его социализирующего потенциала [8], появление в медиапространстве специфических синтезированных форм досуга, вытеснение досуговых практик, ранее осуществлявшихся в реальном времени и пространстве [9]; новые формы воздействия на журналистскую практику в условиях цифровизации самой медиасистемы как на макроуровне – институционального характера в целом, так и на мезоуровне – конкретной медиаорганизации [10].
Медиатизация как исторический феномен . В дискурсе о медиатизации достаточно часто встречается утверждение, что этот феномен является в основном предметом изучения нового поколения теорий коммуникации, в фокусе которых находятся цифровые медиа. Нельзя не согласиться с тем, что беспрецедентное ускорение, которое придали инновационные медиатехнологии всему ходу социального развития, породило новые коммуникативные теории. Вместе с тем нет оснований забывать о существовании развиваемых медиафилософией традиций, рассматривающих историю цивилизаций как историю развития медиа, которые определили и понимание медиатизации как исторического процесса технологического развития общества [11]. Если посмотреть с этой точки зрения на медиатизацию как на процесс включенности символических систем во все структуры общественных отношений и влияния на них, то можно говорить о медиатизации социальных процессов задолго до наступления цифровой эпохи.
В поисках ответа на вопрос об эволюции эффектов медиатизации в исторической ретроспективе рассмотрим ресурсы влияния на общество телекоммуникационных медиа, которые сегодня называют традиционными, или «старыми». Их общим конститутивным признаком является техно-генность, порожденность техническими средствами. Комплексное взаимодействие технических проводников и символических форм, возникшее в эпоху электронных коммуникаций (радиовещания и телевидения), привело к возникновению особой символической реальности – медиареальности. Если прежние символические коммуникации формировали социальный опыт в конкретно-чувственных формах ритуальной и обрядовой событийности, то медиареальность создала многослойную опосредованную модель событийности и иллюзорного опыта «не-присутствия». Это «кодифицированный мир», сотканный из символов, мир, в самих намерениях которого заключена непрозрачность [12, S. 77]. Приоритеты этого мира от архетипов книжной культуры переходили к устному слову и визуальным образам. Быстрые эффекты медиатизации продемонстрировала уже радиореальность, убрав границы между домашней повседневностью и миром высокого музыкального искусства, открыв двери рекламному потоку «мыльных» радиосериалов. Коммуникативный потенциал радиореальности немедленно оценил политический рынок, получивший максимальную инклюзивность новых сегментов аудитории в актуальную информационную повестку.
Телевизионная медиареальность привнесла в социальные коммуникации новую онтологическую интригу: экран представил в зримых формах реальность мира, изображение казалось «растворяющимся» в самой действительности, в ее «непредвзятом течении». Телевизионное «настоящее время» виделось подлинным, в отличие от кинематографического «иллюзорного», и совсем не усматривался интерпретирующий субъект в его функциональности и интенциональности. Вместе с тем медиареальность предлагала бесконечную игру в знаки; философская коллизия, которую породил феномен телевизионной медиареальности, лежала в плоскости проблемы репрезентации иконического текста, метода его прочтения.
Начиная с середины ХХ в. эффекты медиатизации стали предметом анализа в социальнофилософских и социологических подходах к медиакоммуникации: в концепциях мимесиса, технологического медийного фундаментализма, структурного функционализма, социального конструктивизма, системной теории, в то же время предлагая полипарадигмальный взгляд на процессы и формы опосредования. Когда исследовательский маятник оказался в постмодернистской точке, он представил наиболее парадоксальный образ медиареальности как симулятивной модели. Суть медиатизирующего эффекта была образно выражена в изложении Ж. Бодрийара: «Тревелинг знаков, масс-медиа, моды и моделей, беспроглядно-блестящей атмосферы симулякров» [13, с. 153]. В еще более радикальной позиции Ж. Делеза медиареальность предстала как нерепрезентативная модель симулякра, и если копии – это вполне обоснованные претенденты, обеспеченные подобием, то симулякры уподобляются ложным претендентам, не обеспеченным подобием [14, с. 228–229]. В то время как парадигма отражения игнорировала проблему многослойной, ускользающей медиации в техногенной символической реальности, постмодернизм уходил от социальной и политической прагматики в семиотические и эстетические коллизии.
Медиареальность заменила «живой» мир медиатизированной копией; увеличение интенсивности «удаленных» коммуникаций, расширивших коммуникативное пространство, поглотило собой «близкую» повседневность человека. В виртуализации форм присутствия «отсутствующих» проявились характерные признаки медиатизации повседневности. Суггестивные эффекты экранных образов, производимые «ускользающими» символическими посредниками, привели к своеобразной колонизации жизненного мира, формировали новый тип медийной рациональности, опосредованного познания, дробили мир мозаикой «других» образцов культурной идентичности и тем самым порождали иллюзию обретения «телевизионным» человеком большего социального опыта. Однако такого рода медийный опыт «ускользал» от человека так же, как и энер-гийные его изображения, погружая аудиторию в мир иллюзорной медиареальности. Новые медиа XXI в. пришли на подготовленную электронной медиареальностью почву техногенных символических коммуникаций и достаточно легко покорили аудиторию апробированными схемами и моделями коммуникации, представив ее цифровую модификацию.
Институциональные эффекты медиатизации . Рост медиатехнологий во второй половине ХХ в. не мог не сместить акценты теоретического изучения массовой коммуникации с онтологической проблемы «реальность vs иллюзия» в плоскость вопрошания о субъекте массмедийной деятельности и его целях. Медиареальность ХХ в. породила множество теорий массовой коммуникации, в большинстве которых доминировала категория влияния. Информационная повестка и ее разновидности были фокусом для концепций «установления повестки дня», анализирующих смысловые аспекты медиарельности и потенциал ее влияния на общественные процессы. Эти теории, появившиеся во второй половине ХХ в. и составившие особый корпус исследовательских текстов зарубежной коммуникативистики, к рубежу столетий усиленные понятиями фрейминга и прайминга, заняли ведущее место в доказательстве медиатизационных эффектов медиареальности в политической коммуникации. Понятие «медиаполитика», доказывающее эффекты воздействия массмедиа на политическую сферу, которая начинает существовать по законам медиалогики, рождается именно в русле осмысления феномена медиареальности, созданной традиционными средствами массовой коммуникации. Выявляются институциональные механизмы управления информационным влиянием в медиапространстве как в артикулированных позициях государственной власти, политической конкуренции партийных и бизнес-элит, так и в практиках формирования информационной повестки медиасистемой, выступающей в роли «gatekeeper» (привратника). Символическое пространство медиаполитики, создаваемое целерациональной деятельностью институциональных коллективных субъектов, становится многомерным, выступает доказательством втягивания всех сфер общества в орбиту медиапространства. Разнообразие форм и моделей развития медиапространства зависит от институциональных и культурных особенностей разных стран; их всеобъемлющий характер свидетельствует о ведущей роли медиаполитики в современном историческом контексте: «политика – это преимущественно медиаполитика» [15, с. 221].
Заключение . Анализ медиареальности как техногенного социокультурного феномена, создававшегося технологиями традиционных электронных массмедиа, показал, что ее функционирование как символической системы во многом определяло картину мира человека, формировало установки и ценности. На протяжении XX в. эффекты медиатизации проявились как на институциональном уровне, так и в контексте повседневности: с одной стороны, в форме управления и социального контроля в политической сфере, с другой – в создании рутинных практик медиапотребления, колонизировав жизненный мир человека.
Процессы нарастания эффектов медиатизации в современном мире, связанные с развитием цифровых медиа, свидетельствуют о диалектическом характере развития техногенной цивилизации и ставят задачу продолжения осмысления природы техники и оценки ее воздействий на общество, ее места в человеческой культуре, современном усложняющемся мире. Вся история человеческого существования, рассмотренная как история его медиакультуры, может представить нам разные этапы процесса медиатизации, что позволяет согласиться с определением характера медиатизации как социального метапроцесса.
Список литературы Медиатизация: эффекты медиареальности
- Ushanova I.A. Mediatization of Communication: from Concept to Theory // Journal of Siberian Federal University. Humani-ties & Social Sciences. 2015 Vol. 8. Iss. 11. Pp. 2703–2712. 10.17516/1997-1370-2015-8-11-2703-2712; Kaun A., Fast K. Mediatization of culture and everyday life. Karlstad University Studies, 2014. 103 p.; Гуреева А.Н. Теоретическое понима- ние медиатизации в условиях цифровой среды // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2016. № 6. С. 192–208.
- Mazzoleni G., Schulz W. “Mediatization” of Politics: A Challenge for Democracy? // Political Communication. 1999. Vol. 16, Рр. 247–261. 10.1080/105846099198613; Schulz W. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept // European Journal of Communication. 2004. Vol. 19, Рр. 87–101. 10.1177/0267323104040696/; Hjarvard S. The Mediatization of Cul-ture and Society. L., 2013. 192 p.
- Hepp A. The Communicative Figurations of Mediatized Worlds: Mediatization Research in Times of the ‘Mediation of Every-thing’ // European Journal of Communication. 2013. Vol. 28. Pp. 615–629. 10.1177/0267323113501148.
- Krotz F., Hepp A. A Concretization of Mediatization: How Mediatization Works and Why ‘Mediatized Worlds’ are a Helpful Concept for Empirical Mediatization Research // Empedocles European Journal for the Philosophy of Communication. 2011. Vol. 3(2), Pp. 137–152. 10.1386/ejpc.3.2.137_1.
- Ushanova I. A. Op. cit.; Kaun A., Fast K. Op. cit.; Ним Е.Г. Исследуя медиатизацию общества: концепт медиатизиро- ванных миров // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 3. С. 8–25. 10.19181/socjour.2017.23.3.5361.
- Krotz F. Media, Mediatization and Mediatized Worlds: A Discussion of the Basic Concepts // Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Basingtoke, 2014. P. 72–87. 10.1057/9781137300355_5.
- Lunt P. Livingstone S. Is “Mediatization” the New Paradigm for Our Field? A Commentary on Deacon and Stanyer (2014, 2015) and Hepp, Hjarvard and Lundby (2015) // Media Culture & Society. 2016. Vol. 38. Pp. 462–470. 10.1177/0163443716631288.
- Полуэхтова И.А. Социокультурные эффекты медиатизации телевидения // Знание. Понимание. Умение. 2018. № 4. С. 71–82. 10.17805/zpu.2018.4.7.
- Основные тенденции медиатизации современного социокультурного пространства / С.Э. Лебедева [и др.] // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2018. № 4. С. 69–76.
- Peruško Z., Čuvalo A., Vozab D. Mediatization of Journalism: Influence of the Media System and Media Organization on Journalistic Practices in European Digital Mediascapes // Journalism. 2020. Vol. 21(11). Pp. 1630–1654. 10.1177/1464884917743176.
- Raible W. Medien-Kulturgeschichte: Mediatisierung als Grundlage unserer kulturellen Entwicklung. Heidelberg, 2006. 461 S.
- Flusser V. Kommunikologie. Hg. S. Bollmann und E. Flusser. Frankfurt / Main, 2007. 355 S.
- Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 387 с.
- Делез Ж. Платон и Симулякр // Интенциональность и текстуальность. Томск, 1998. 320 с.
- Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2016. 564 с.