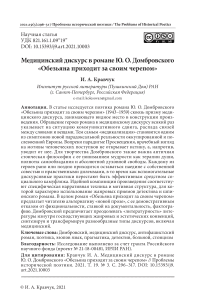Медицинский дискурс в романе Ю. О. Домбровского "Обезьяна приходит за своим черепом"
Автор: Кравчук Игорь Александрович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется поэтика романа Ю. О. Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом» (1943-1959) сквозь призму медицинского дискурса, занимающего видное место в конструкции произведения. Обращение героев романа к медицинскому дискурсу всякий раз указывает на ситуацию коммуникативного сдвига, распада связей между словами и вещами. Тем самым «медикализация» становится одним из симптомов новой парадоксальной реальности оккупированной и послевоенной Европы. Вопреки парадигме Просвещения, врачебный взгляд на мотивы человеческих поступков не открывает истину, а, напротив, уводит от нее. Для творчества Домбровского также важна античная стоическая философия с ее пониманием мудрости как терапии души, полноты самообладания и абсолютной духовной свободы. Каждому из героев рано или поздно приходится оставаться наедине с собственной совестью и нравственными дилеммами, в то время как вспомогательные дискурсивные практики перестают быть эффективным средством социального камуфляжа. Идейной композиции произведения соответствуют специфическая нарративная техника и мотивная структура, для которой характерно использование жанровых приемов детектива и шпионского романа. В целом роман «Обезьяна приходит за своим черепом» предлагает читателю альтернативу «новой прозе», с ее демонстративным отказом от фикциональности, ставкой на документальность, фактографию. Домбровский предпочитает преодолевать «литературность» литературы изнутри господствующих жанровых и эстетических конвенций, синтезируя и трансформируя разнообразные типы дискурсов, включая медицинский.
Домбровский, медицинский дискурс, антифашистский роман, поэтика, эзопов язык, прагматика, детектив, больной, стоицизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147236172
IDR: 147236172 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10003
Текст научной статьи Медицинский дискурс в романе Ю. О. Домбровского "Обезьяна приходит за своим черепом"
Р оман «Обезьяна приходит за своим черепом» остается в тени наиболее знаменитых произведений Ю. О. Домбровского — «Хранителя древностей» и «Факультета ненужных вещей». Работу над текстом писатель начал в Алма-Ате, на больничной койке, после того как был освобожден по состоянию здоровья из Севвостлага в 1943 г. Роман с самого начала предназначался для печати. Отдельные фрагменты будущей книги читались писателем в Алма-Ате публично; переговоры о публикации велись с Б. А. Лавреневым и директором издательства «Московский рабочий» П. И. Чагиным1. К концу 1940-х гг. стало понятно, что роман издан не будет. 13 августа 1949 г. Алма-Атинский облсуд признал Домбровского виновным по статье 58.10 УК РСФСР и приговорил к 10 годам исправительно-трудового лагеря2. Вторую и третью редакцию «Обезьяны…» отделяют друг от друга шесть лет лагерного заключения, долгожданная реабилитация, переезд из Алма-Аты в Москву и трудное возвращение в писательскую профессию, состоявшееся в первую очередь благодаря роману. Вместе с тем публикация книги не принесла автору того признания, на которое он рассчитывал. «Я ждал рецензий, отзывов, — вспоминал писатель в письме к С. П. Злобину, — на плохой конец просто упоминаний в общих обзорах литературы за этот месяц или полугодие. Но ничего не было. Книги как будто не существовало. Мимо нее проходили, не замечая, — ну хоть бы выругали, что ли!» (6: 242)3. Для 50-летнего писателя начался период призрачного существования на границе «легальной» словесности.
В литературе, посвященной творчеству Домбровского, укоренилось представление об аналогии между нацизмом и сталинизмом как об основе замысла «Обезьяны…» (см. напр.: [Лейдерман, Липовецкий: 204]. Того же мнения в целом придерживается и П. Дойл. При этом Дойл довольно скептически оценивает значение пролога и эпилога для общей конструкции романа. История Ганса Мезонье характеризуется им как «уступающая основному повествованию по силе и интересу» и «натянутая» [Doyle: 86]. Главной функцией обрамляющего повествования, по версии исследователя, было актуализировать сюжет романа, увеличив шансы книги на публикацию и успех у читателя. Мы позволим себе не согласиться с этой оценкой. На наш взгляд, обрамляющая фабула в романе Домбровского имеет важное конструктивное значение. Повествование о Гансе Мезонье несет на себе отпечаток популярных литературных жанров: детективной новеллы и шпионского романа. Нацистский преступник выживает после покушения, а затем по неясной причине уходит от справедливого возмездия. Сын человека, доведенного им до самоубийства, спустя много лет опознает нациста и пытается выяснить, почему тот избежал сурового наказания. Постепенно главный герой вскрывает масштабный политический сговор, цель которого — обелить бывших нацистов и коллаборантов, дискредитировать СССР и психологически подготовить западноевропейское общество к новой большой войне.
В известной работе о детективной новелле Ю. К. Щеглов подчеркивал, что одной из важных отличительных особенностей этого жанра является четкое разграничение сюжетного и фабульного планов, соединенных сетью мотивных соответствий. Семантическое ядро детективного сюжета составляет тайна , обязательными компонентами новеллы становятся нарастающее напряжение, одна или несколько попыток установить истину, наконец, разгадка тайны, как правило, парадоксальная, неожиданная, требующая нетривиальной интерпретации наличных фактов, особых познаний, навыков или способностей [Щеглов: 105–106].
У. Эко ставит в семантический центр детективного сюжета не поиск преступника и даже не открытие истины, а восстановление Порядка [Эко: 411]. В контексте его работы такая расстановка акцентов позволяет распространить структурные особенности конкретного жанра на всю «традиционную прозу» в целом. Задолго до Эко В. Б. Шкловский попытался обобщить различные виды повествований, основанных на загадке, тайне, семантических лакунах и перестановках. Так возникает понятие романа тайн — многоуровневого произведения, ставящего читателя перед необходимостью понять взаимосвязь различных сюжетных линий, мотивов и эпизодов, отделить конструктивные элементы повествования от элементов, замедляющих движение сюжета, различить между собой истинные и ложные разгадки. «Ложная разгадка — истинная разгадка и составляет технику организации тайны; момент перехода от одной разгадки к другой есть момент развязки» [Шкловский: 150].
Свою технику тайн разрабатывает в «Обезьяне…» и Домбровский: обрамляющее и основное повествование в его романе связаны как общим идейным замыслом, так и сквозными мотивами, сюжетными параллелями. Сыну Леона Мезонье предстоит встретить друзей и врагов своего отца, оказаться перед тем же этическим выбором, что и его отец в годы войны. Детективное повествование обрамляет интеллектуальный роман об истоках фашизма. Соперничающие жанровые модификации в конструкции романа не только оттеняют, но и деформируют друг друга: конспирологический сюжет о взаимопомощи старых нацистов отступает на второй план, а основной сюжет романа усваивает себе определенные черты детективного повествования. Череп ископаемого человека, обнаруженный некогда профессором Мезонье, становится уликой , доказывающей несостоятельность расовой антропологии нацистов. Именно эту улику хотят изъять и уничтожить оккупанты, орудием которых является предатель Ланэ. Другое важное свидетельство — идейное завещание профессора — рукопись, которую переправляет в СССР подпольщик Крыжевич. Впоследствии королевский прокурор будет тщетно добиваться от Ганса признания в том, что последняя книга Леона Мезонье — большевистская фальсификация. Идейный замысел романа раскрывается при помощи системы ложных мотивировок . Продемонстрируем это на конкретном примере, рассмотрев бытование медицинского дискурса в тексте Домбровского.
Действие романа начинается с неожиданной встречи Ганса Мезонье с бывшим следователем гестапо Иоганном Гарднером. Гарднер не просто выжил и быстро вышел на свободу — он получает почту на имя убитого им же участника сопротивления Жослена. Ошеломленный и взбешенный Ганс выслеживает Гарднера, но тот реагирует на поведение Ганса с вызывающим хладнокровием, и первый зовет сержанта полиции, чтобы показать ему документы. В бумажнике Гарднера обнаруживается постановление об амнистии по состоянию
Медицинский дискурс в романе Ю. О. Домбровского… 301 здоровья и медицинское заключение. Полицейский сам оказывается в прошлом участником сопротивления и жертвой оккупантов:
«А, по правде сказать, больным-то вы что-то совсем не выглядите! — сказал он вдруг зло и насмешливо. — Что же, интересно, у вас заболело? Сердце небось сдало? А? — Гарднер молчал. — У тех, кого вы расстреливали, тоже сдавало сердце, да тогда вы что-то внимания на это не обращали» (2: 14).
Сержант как бы одновременно намекает и на то, что работа в гестапо подорвала физические силы Гарднера, и на то, что он просто симулирует болезнь.
Той же ночью Ганс общается с Иоганном Ланэ. Ланэ — одна из ключевых фигур в романе. Бывший ученик и сотрудник профессора Мезонье, Ланэ публично отрекся от учителя и пошел на деятельное сотрудничество с нацистами. Одновременно он формально сохранил близкие отношения с семьей профессора, беря на себя роль посредника в переговорах между ним и оккупационной администрацией о лояльности расовой теории. Ланэ — сознательный конформист. Он глубоко убежден: возвышенные идеалы ничего не стоят перед кулаком или дубиной, интеллигент не может не презирать варвара, но ему нечего и противопоставить варвару:
«Слова словами, все это очень красиво и правильно, но вот если откроется дверь и в столовую войдет самый настоящий питекантроп и потребует у вас свой череп, который хранится у вас в сейфе, что вы тогда будете делать?» (2: 42–43).
Хаос последних дней войны чудесным образом превращает Ланэ из шкурника (как называл его профессор) в одного из моральных столпов общества: сперва его объявляют погибшим от рук оккупантов, затем же, когда тот возвращается из концлагеря, провозглашают стойким борцом против тирании. В конце концов Ланэ возглавляет крупную газету и берет к себе на работу Ганса.
Статья о безнаказанности Гарднера производит фурор, пугая одних, возмущая других и вызывая поддержку со стороны третьих. На следующий день в редакцию звонит некий раздраженный аноним:
«Гарднера выпустили по болезни. А если человек, кто б он ни был, болен, значит, он мне не враг, а враг мне тот, кто подбивает меня линчевать больного. Вы что же, уважаемый, опять виселиц захотели? Мало вам было их при нацистах?» (2: 47).
Классик американской социологии Т. Парсонс предложил изучить болезнь как разновидность социальной девиации . Как девиант больной находится на границе социальности: он может рассчитывать на воссоединение с обществом, либо на легитимацию своего статуса, становясь объектом заботы, медицинского попечения, социального контроля4. Парсонс описывает своего рода договор между пациентом, терапевтом и социумом: «…определение пациента как “больного” дает основание для допустимости поблажек: он не может быть “полностью ответственен” за свое состояние и за некоторые вещи, которые он говорит или делает» [Парсонс: 435]. Парсонс также рассматривает девиантную пару больной — преступник : «…большая часть преступников обычно “списывается со счета”, изымается из конструктивной социальной роли, а больной — нет» [Парсонс: 434].
Гарднер-больной больше не равен Гарднеру-преступнику. Он в серой зоне, где преступление — предмет умолчания, а наказание условно. Вслед за Гарднером, Ганс должен быть также исторгнут из общества в серую зону болезни, полунормальности : теперь от его готовности принять на себя роль больного зависит, сможет ли он вернуться в общество или станет преступником. Обратим внимание на дидактическую интонацию, с которой королевский прокурор обращается к Гансу:
«Беда в том, что вы, мой дорогой, честный, но, увы, неосторожный друг, не учли нескольких важнейших моментов сегодняшней мировой обстановки и реальной расстановки сил. Отсюда и все ваши болести. Впрочем, давайте попытаемся что-нибудь сделать для их врачевания» (2: 63).
В этом же сумеречном, болезненном мире разыгрывается покушение на Ганса: в него несколько раз стреляет Сюзанна Сабо, в судьбе которой Ганс за два года до инцидента принял активное участие. Тогда Сабо, несовершеннолетняя девушка, убила собственного отца и была признана судом невменяемой:
«Дело Сабо в свое время меня очень заинтересовало, и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием “Погубившие малых сих”. Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был: “Не убийца, а убитый виноват”. Ибо действительно, убитый — отец девочки — казался мне виноватым значительно больше, чем его малолетняя убийца. На процессе выяснилось, как тщательно и любовно выращивали родители в ребенке того зверя, который под конец и слопал их обоих» (2: 69).
Спустя два года психически нестабильная Сабо, направляемая чьей-то рукой, приходит к автору тезиса о вине убитого, чтобы его застрелить. Следуя логике «перевернутой реальности», Сюзанна, прежде чем открыть пальбу, говорит Гансу, что ей очень жалко его. Обратим внимание на пророческий смысл прощальных слов, адресованных Гансу Крыжевичем:
«— Ганс, помните только одно: подлецы никогда не делают ничего сами, для этого у них есть честные люди, которым стоит только шепнуть словечко — и все будет обделано за два-три часа в лучшем виде» (2: 46).
Новая внезапная догадка поражает молодого Мезонье: подлецы управляют честным, но сумасшедшим фанатиком — это прямая аналогия между выстрелом Сабо и поджогом Рейхстага 27 февраля 1933 г. Ганс мысленно сопоставляет Сюзанну с Маринусом ван дер Люббе (1909–1934) — рабочим-каменщиком, бывшим членом Коммунистической партии Нидерландов и бессознательным (насколько можно судить) соучастником нацистской провокации с целью развязывания репрессий против левых сил и упрочению власти НСДАП в Германии5. Ганс неслучайно спрашивает Ланэ, будет ли Сюзанна выступать на его суде в качестве свидетельницы.
В госпитале Ганса навещает прокурор с целью узнать судьбу рукописи, отправленной профессором в СССР перед смертью. Новым властям страны, проводящим в жизнь антикоммунистическую политику, хотелось бы доказать, что опубликованная в Советском Союзе последняя работа Леона Мезонье — агитка, фальшивка. Лечащий врач Ганса сообщает, что процесс выздоровления затянулся, так как в последние дни у больного «отходили секвестры» (2: 435). В медицине секвестром называется омертвевший участок ткани, располагающийся внутри тканей живых. Такие участки подлежат обязательному хирургическому удалению, а легочные секвестры отхаркиваются (см:. [Краевский]). Реакция прокурора на сообщение хирурга несколько эксцентрична:
«Секвестры? Ах, секвестры! — обрадовался прокурор. <…> — Вот у меня тоже весь сорок пятый год отходили секвестры. А на костылях вы еще не ходите, коллега?» (2: 435).
Еще деталь: Ганс замечает, что прокурор перебирает его рентгеновские снимки «хорошо отработанным жестом опытного игрока в покер» (2 435). Как и Ланэ, прокурор — «перевертыш»: некогда освобожденный Крыжевичем из лагеря смерти, он спокойно выписывает ордер на его арест одиннадцать лет спустя, обвиняя того в убийстве Гарднера. Отторжение омертвевших тканей (очевидно, перенесшим в лагере гнойную инфекцию) становится символом морального перерождения героя, а медицинская терминология — разновидностью блефа (2: 441–442).
Как видим из приведенных примеров, медицинский дискурс каждый раз указывает на ложность мотивировки, медицинская терминология, медикализация как таковая — разновидность риторического камуфляжа, скрывающего истинную суть вещей, размывающего логическую связность поступков, их истинные мотивы, их этическую оценку. Болезнь тела неразрывно связана с болезнью языка, понятийными и моральными «диспропорциями» социальной реальности. Прослеживается ли эта закономерность в основном повествовании? На наш взгляд, да. Приведем еще один выразительный пример. Садовник Курт с детства страдает от тяжелых припадков (вероятнее всего, эпилептических), ослабевающих лишь по мере взросления. Курт, с его слов, попадает после одного из таких припадков в клинику, где местный врач тестирует на нем прогрессивные методы лечения. Эксперименты приносят некоторую пользу, однако их приходится прервать с началом оккупации, когда хозяевами клиники становятся врачи-немцы, исповедующие расовую теорию. Случай Курта признается неизлечимым, а сам Курт — неполноценным. Как наследственный эпилептик он подпадал под критерии нацистской программы «Т-4», предполагавшей либо стерилизацию, либо умерщвление. От верной гибели в газовой камере Курта спасает очередной эпилептический припадок: по какой-то причине его медицинский случай признается интересным, и его решают не убивать.
К скупым признаниям Курта подталкивает сам профессор:
«Вот вы не хотите говорить об этом вашем физическом недостатке, смущаетесь и боитесь его, — да, да, боитесь его, — а этого не надо, ни в коем случае не надо, наоборот, вы должны позволить обсуждать и говорить о нем. Тогда вам будет легче и он пройдет» (2: 158).
Истина целительна сама по себе — в этом убеждении профессор следует клинической философии, основы которой были заложены эпохой Просвещения. В парадигме Просвещения взгляд врача — это взгляд свободный, ясный, трезвый, побеждающий предрассудки, взгляд нормализующий , избавляющий человеческое тело и общество от неразрешенных вопросов, гнетущих противоречий. Сущность этого подхода выражена М. Фуко: «…болезнь должна была сама, без затруднений, сформулировать для взгляда врача нерушимую и даруемую истину. Общество же, находящееся под медицинским наблюдением, осведомленное и просвещенное, должно благодаря этому освободиться от болезни. Великий миф свободного взгляда , который в своей верности тому, чтобы открывать , получает свойство разрушать . Очищенный и очищающий взгляд, свободный от тени, рассеивает мрак. Космологические ценности, подразумеваемые в Aufklärung6, еще участвуют в этом» [Фуко, 2010: 73]. Но обратим внимание на трагическую иронию, заключенную в словах профессора: ведь именно добровольное признание своего диагноза едва не стоило Курту жизни.
К. А. Богданов пишет о своеобразной «медикализации» поэтики в первой половине XIX в., усилении интереса к телесности, физиологии, анатомии как о романтической реакции на эстетику сентиментализма: «Медицинская терминология и образность позволяли увидеть “голую натуру”, “изнанку” или — в противовес идиллической “поэзии” — “прозу жизни”»
[Богданов, 2010: 107]. Патографическая оптика становится той общей почвой, на которой встречаются неистовый романтизм и натурализм. «Медицина и литература призваны “отсекать”, “устранять” все, что мешает выявлению правды, апофатически приближая читателя (пациента) к ее онто- и филогенетическому абсолюту — несокрытости и самодостаточности» [Богданов, 2010: 132]. В романе Домбровского наблюдаем нечто противоположное: искаженное понимание медицинского знания, здорового и болезненного делает медицинский взгляд инструментом лжи и насилия. Нацистская медицина оказывается синонимом геноцида, нацистская наука — синонимом шарлатанства и волюнтаризма:
«Вы знаете, в России есть Институт мозга, где целый штат профессоров и академиков пытается нащупать пути к этой недоступной для нас тайне. А они! ‥ Боже мой, как у них все просто! Кронциркуль, две-три формулы, какая-нибудь таблица промеров — вот и все. Право, не больше, чем в сумке коновала. Впрочем, оно и понятно. Мы изучаем череп для того, чтобы делать человека еще более мудрым, а они — чтобы превратить его в скота» (2: 79).
Домбровский вводил в свои повествования сюжетные приемы детектива, ценя те композиционные и изобразительные возможности, которые предоставляет этот жанр7. О восстановлении Порядка в самом финале романа говорит, обращаясь к присяжным, Ганс Мезонье:
«Мое сегодня так похоже на мое вчера, что, познав его, я уже не сомневаюсь в том, каким будет мой завтрашний день. Я уже пережил этот завтрашний день сопливым мальчишкой и сыт им по горло. Но тогда мне было легче, потому что я ровно ничего не понимал, я не понимал, из каких корней выросла война и кто в ней виновен, не понимал, кто такой я, кто такой Ланэ, кто Гарднер, кто Крыжевич. А теперь я это знаю и хочу об этом рассказать всем» (2: 447).
Указание на элементы детективного повествования как на один из возможных ключей к интерпретации романа вводится Домбровским непосредственно в текст произведения, а именно в описание литературных пристрастий профессора Мезонье:
«…в художественной литературе после Сенеки он больше всего любил детективные романы с похищениями, тайнами, страдающими красавицами, убийствами и утраченными секретами» (2: 163).
О влиянии стоической традиции на мировоззрение Домбровского сказано немало, и в этой статье мы не будем излишне подробно касаться этой темы (см.: [Woodward], [Макарычев]). В «Обезьяне…» профессор Мезонье не расстается с томиком Сенеки и постоянно цитирует по памяти стихи из его трагедий. В завершение нашей статьи коснемся возможной взаимосвязи между патографией и стоицизмом в идейной композиции «Обезьяны…».
Марта Нуссбаум считает медикализацию одной из общих черт разных философских направлений эллинистической эпохи — эпикуреизма, скептицизма и стоицизма. В этот исторический период философия воспринималась как во многом прикладная деятельность: философ исцеляет человека от заблуждений, страстей, невежества; ищет правду, понимаемую как учение о должном, о благе. Одно из ключевых понятий эллинистической мысли — εὐδαιμονία — слово, которое чаще всего переводится на русский язык как счастье , но также включает в себя представления о благе, свободе, самодостаточности, цельности.
Сказанное в наибольшей степени относится именно к стоикам. Мыслитель-стоик — это прежде всего терапевт: «Медицинская функция философии видится, главным образом, в том, чтобы укреплять (toning up) душу — развивать ее мускулы, учить ее эффективнее распоряжаться собственными возможностями» [Nussbaum: 317–318]. М. Фуко отмечал, что философское воспитание души, самосовершенствование в античной традиции часто описывалось при помощи медицинских образов и метафор [Фуко, 1998: 64]. Первостепенной ценностью становится добродетель. Добродетель в понимании стоиков, отмечает Нуссбаум, — понятие абсолютное и универсальное. Описать ее через другие понятия или категории невозможно. Добродетель включает в себя эвдемонию, но ею не является и к ней не сводится. Можно сказать, что добродетель стоика — это полнота самообладания. Истинный мудрец есть человек, равный самому себе, совершенно цельный, способный к свободному выбору, не обусловленному и не продиктованному никакими внешними стимулами [Nussbaum: 362]. Он сохраняет достоинство перед лицом принуждения, пытки, болезни, старости, смерти.
«Ты спросишь, что есть настоящая беда? — пишет Сенека Луцилию в 85 письме. — Поддаться тому, что именуется бедами, и отдать им свою свободу, ради которой дόлжно все перенести. Свобода гибнет, если ты не презришь все, что налагает иго. Не было бы сомнений в том, чтό подобает храброму, если бы знали, в чем истинная храбрость. Это — не дерзость вопреки разуму, не страсть к опасностям, не стремление навстречу ужасам. Храбрость есть умение различать, чтό беда и чтό нет. <…> — “Как же так? Если над головою храброго мужа будет занесен меч, если ему будут пронзать одну часть тела за другой, если он увидит, как внутренности вываливаются ему на колени, если для того, чтобы он сильнее чувствовал пытки, их будут повторять и пускать свежую кровь из подсохших ран, ты скажешь, что он не боится и не страдает?” — Страдает, конечно; ведь человеческих чувств никакая добродетель не отнимает, — но не боится и, непобежденный, смотрит свысока на свои страдания. Ты спросишь, что у него тогда на душе? То же, что у старающихся ободрить больного друга»8.
А. А. Столяров заключает, что на фоне других стоиков у Сенеки «этика из отвлеченного исследования блага и добродетели уже окончательно становится средством кристаллизации интимно-личностных убеждений, концентрации на жизни своего “я”» [Столяров: 294]. Возможно, наивысшим проявлением этой полноты «я» становится готовность добровольно уйти из жизни, когда ее продолжение несовместимо со следованием долгу или представлениями о добродетели и благе9. Что касается Сенеки, он не только подал личный пример подобного поступка, но и оставил собственное философское обоснование суицида в трактате «О гневе». В нем Сенека, в частности, разбирает поведение мидянина Гарпага, служившего при дворе царя Астиага. Царь, доверившись пророчеству о великой судьбе, уготованной его внуку Киру и опасаясь, что внук отберет у него трон, велел Гарпагу убить младенца, но Гарпаг, пожалев ребенка, отдал Кира пастуху.
Узнав об ослушании, Астиаг жестоко покарал Гарпага, пригласив его на обед и подав к столу мясо его собственного сына. На вопрос, как ему понравилось угощение, Гарпаг, согласно источнику, ответил «У царя всякий обед приятен»10. Сенека полагал, что кажущееся самообладание Гарпага перед лицом Астиага совершенно не делает ему чести. Нет никакого достоинства в том, чтобы снести такую муку от деспота и продолжать сидеть с ним за одним столом, не попытавшись воздать ему по заслугам. Если же тираноубийство по тем или другим причинам невозможно, есть последнее средство — самоубийство11:
«Ты спрашиваешь, какой еще путь ведет к свободе? Да любая жила в твоем теле!»12.
В сюжете Домбровского этот принцип Сенеки реализован трижды: профессор Мезонье уходит из-под власти нацистов, приняв яд; подпольщик Войцик, обхватив Курцера во время допроса, вместе с ним выбрасывается из окна; наконец, сломленный гестаповцами доктор Ганка, стремясь возродить свою душу, собирается с силами и стреляет в голову Гарднеру, после чего сам сводит счеты с жизнью. Именно безоглядная готовность к самопожертвованию становится последним аргументом в споре о биологическом и моральном в природе человека. Это осознает и Ганс Мезонье, почему он и отклоняет просьбу Ланэ сбежать от надвигающихся на него неприятностей в Париж.
Понятие болезни для стоиков тесно связано с понятиями страсти и страдания. Для всех этих явлений применимо греческое слово πάθος (также обратим внимание на происхождение слов патология , патография ). Многозначности этого термина касается в «Тускуланских беседах» Цицерон:
«…греки называют “страданиями” и такие чувства, как жалость, зависть, ликование, радость, — все движения души, неподвластные разуму; а у нас для всех этих движений взбудораженной души есть, по-моему, более точное слово “волнение” или “страсть”, тогда как “страдание” в этом значении, если я не ошибаюсь, малоупотребительно»13; «…душа, охваченная болезнью, — а болезнью, как сказано, философы называют всякое взволнованное состояние, — так же больна, как и тело, охваченное болезнью»14.
Сенека также различает в своих сочинениях термины adfectus и morbus , указывающие, соответственно, на страсть и недуг. Вместе с тем он достаточно часто уподобляет страдания души болезням тела, прямо уподобляя философа врачевателю (cм.: [Setaioli: 240–241]). «Греко-английский лексикон» Лидделла и Скотта в числе прочих толкований слова πάθος предлагает такие: «то, что случается с человеком или вещью»; «нечто, испытанное человеком» (опыт); «состояние»15. При этом чаще всего подразумевается негативный опыт: неудача, бедствие ( calamity ). Проще говоря, πάθος обозначает нечто внешнее по отношению к воле и намерениям субъекта, что-то, по отношению к чему он является пассивной, претерпевающей стороной.
В романе Домбровского взаимосвязь между эпизодами болезни, беспамятства и малодушия отличает психическое состояние нациста и бывшего ученого Курцера, потерявшего контроль над собой, и арестованного немцами доктора Ганки. Домбровский подчеркивает это сходство, располагая главу о Ганке и Войцике в тюрьме непосредственно следом за главой, описывающей эмоциональное потрясение, пережитое Курце-ром. В четвертой главе мы встречаем Ганку в камере:
«Он робко дотронулся до затылка и зашипел от страшной, жгучей боли — кожа с затылка была ободрана. Он понял, что его где-то били, и били, очевидно, долго и упорно» (2: 287).
По-видимому, организм Ганки каждый раз до такой степени шокирован понесенным моральным поражением , что услужливая память просто стирает наиболее мучительные воспоминания. Лишь по физическому симптому — дрожанию пальцев — Ганка догадывается о своем страхе, а затем понимает, что присоединился к коллективному отречению от профессора.
Ганка по своей натуре не трус, не предатель, не идейный конформист («сумчатая крыса»), как Ланэ. Его не устраивает объяснение своих поступков внешними обстоятельствами. Домбровский явно намеренно обессмысливает медицинскую терминологию в сцене, где Ганка ощупывает разбитую голову:
«Надо бы перевязать, — смутно подумал он, — а то может быть сепсис. Или нет, не сепсис, а как его там… сотрясение мозга» (2: 288).
Нам становится ясно, что в действительности Ганку не заботит ни перспектива сепсиса, ни возможное сотрясение мозга. Незадолго до освобождения он выражает свое восхищение Войцику, называя того «железным человеком»:
«Такие только и нужны в наше время. А я…
— А вы? — спросил Войцик. — Вы какой?
— Я? — Он беспомощно развел руками. — Видите, какой? — сказал он с жалкой усмешкой. — Очень нехороший.
— Из мяса, нервов и костей? — серьезно спросил Войцик.
— Еще хуже. Только из нервов!» (2: 320).
Иными словами, Ганка — тот самый «философский больной» стоиков, человек, над которым безраздельно властвует πάθος . Покушение на Гарднера и последующее самоубийство вводят в реалистическое повествование особенный эпизод — выстрелив в Гарднера, Ганка неожиданно видит в комнате Войцика. Не приходится сомневаться в том, что, выпав из окна, настоящий Войцик не выжил. Следовательно, либо это галлюцинация героя, либо Домбровский заставляет слабого, но преодолевшего себя человека испытать трансгрессию:
«Ганка прыгнул и прижался к косяку окна. Войцик стоял рядом с ним, локоть о локоть.
— Да, это дело, — сказал ему Ганка, смотря на солдата. — Это такое дело… — повторил он и, боясь опоздать, сунул браунинг в рот.
Выстрела он уже не услышал» (2: 432).
«…Стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой», — так описывал свой писательский метод В. Т. Шаламов [Шаламов: 157]. В глазах Шаламова исторический опыт XX в. навсегда перечеркивал фикциональность прозы в ее привычном понимании, саму категорию художественного вымысла. Литература, не сумевшая ни воспитать, ни остановить человечество, создавшее ГУЛАГ, Освенцим и атомную бомбу, лишается права на дидактику, проповедь, отступление от правды документа. Эстетическая программа Домбровского, которого с Шаламовым роднит трагический лагерный опыт, гораздо менее радикальна. Но и для него, многолетнего узника сталинских лагерей, вынужденного в пятьдесят лет фактически заново начать свой путь в литературе, категория правды имела первостепенное значение:
«Лев Толстой писал, что для искусства нужно только одно: говорить правду; потому что если все остальные отрицательные качества только сверху загаживают искусство, а структура его сохраняется и под этой гладкой пленкой, то ложь разрушает всю живую ткань, все крошится и рассыпается, как сухая известка», — писал Домбровский жене К. Ф. Турумовой16.
В романе «Обезьяна приходит за своим черепом» Домбровский не отказывался от фикциональности. Тем не менее, подобно другим писателям, остро ощущавшим масштаб моральных катастроф XX в., он искал способ сделать поэтику продолжением, формой бытования этики . Для Домбровского это означало проследить путь каждого из героев к тому рубежу, за которым человек остается наедине с самим собой и должен пройти сквозь горнило своего личного испытания, своего выбора.
Результатом многолетней работы над романом стало многоплановое повествование, в котором последовательно и изобретательно деконструируются бытовые, психологические, социально-политические мотивировки поступков, событий, описываемых исторических явлений. Акт трансгрессии, совершаемый теми из героев Домбровского, кто находит в себе силы переступить через страх, чувство самосохранения, любые самооправдания, обнажает вечный этический конфликт, возвращая точные соответствия между словами и вещами. Домбровский дезавуирует не только фабульные, но и жанровые мотивировки. Рассказ Ганса Мезонье в финале оказывается пространной судебной речью — выступлением обвиняемого, которое de facto становится обвинительным актом, подобно выступлению Димитрова на Лейпцигском процессе. При этом оказывается, что раскрытие заговора не было главной целью Ганса. Восстановление порядка, реконструкция причинно-следственных связей, изучение первопричин тоталитарного сознания — вот что на самом деле интересует героя Домбровского. Главными методами его «расследования» становятся интроспекция, воспоминание, творческое усилие, восполняющее лакуны памяти. Обнажая осевой конфликт романа, автор последовательно избавляется от повествовательных шаблонов, жанровых условностей, дискурсивных рамок. Домбровский приводит своего героя к правде юридического документа (обвинительного заключения), как бы ре-актуализируя детективную фабулу, но переводя ее при этом из интрадиегетического в экстрадиегетический план: заключительное слово Ганса обращено не только и не столько к присяжным, сколько непосредственно к читателю, преобразуя тем самым прагматику текста. Трансгрессии персонажей соответствует трансгрессия повествования за пределы фиктивной реальности.
Таким образом, в романе «Обезьяна приходит за своим черепом» мы видим альтернативу «новой прозе» Шаламова: прибегая, на первый взгляд, к более традиционным нарративным техникам, Домбровский не менее напряженно ищет способ преодолеть «литературность» литературы, подорвать господствующие жанровые конвенции. В «Обезьяне…» этот подрыв осуществляется изнутри самих конвенций, путем синтеза и трансформации различных жанров и дискурсов, не исключая медицинский.
Список литературы Медицинский дискурс в романе Ю. О. Домбровского "Обезьяна приходит за своим черепом"
- Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII-XIX веков. М.: ОГИ, 2005. 504 с.
- Богданов К. А. «Тлетворный дух» в русской литературе XIX века: (анти)эстетика как мораль // Ароматы и запахи в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Кн. 2. С. 101-133.
- Димитров Г. Лейпцигский процесс. Речи, письма и документы. М.: Политиздат, 1984. 510 с.
- Жовтис А. Л. Дело № 417 (Ю. О. Домбровский в следственном изоляторе на улице Дзержинского) // Континент. 1999. № 101. С. 263-280.
- Краевский Н. Секвестр // Большая медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1934. Т. 30. С. 24-25.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2 т. М.: Академия, 2003. Т. 2: 1968-1990. 688 с.
- Макарычев А. В. Формы репрезентации стоической философии в романе Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» // Эволюция и трансформация дискурсов: сб. науч. ст. Самара: Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, 2019. С. 91-98.
- Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002. 831 с.
- Смирнова А. И. Дилогия Ю. О. Домбровского «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей»: история создания и поэтика // Вестник ВолГУ Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2005. № 4. С. 105-108.
- Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М.: АО КАМИ ГРУП, 1995. 448 с.
- Фуко М. История сексуальности-III. Забота о себе. Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. Т. 3. 288 с.
- Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический проект, 2010. 252 с.
- Шаламов В. Т. О прозе // Шаламов В. Т. Собр. соч.: в 6 т. + т. 7, доп. М.: Книжный клуб Книговек, 2013. Т. 5. С. 144-157.
- Шенфельд И. Круги жизни и творчества Юрия Домбровского // Грани. 1979. № 111/112. С. 351-377.
- Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. 267 с.
- Щеглов Ю. К. К описанию структуры детективной новеллы // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты-Тема-Приемы-Текст. М.: Прогресс, 1996. С. 95-112.
- Эко У Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. М.: АСТ; CORPUS, 2018. 512 с.
- Doyle P. Iurii Dombrovskii: Freedom under Totalitarianism. Amsterdam: Harwood academic publishers, 2000. 227 p.
- Englert W. Stoics and Epicureans on the Nature of Suicide // Proceedings of the Boston Area Colloquium of Ancient Philosophy. 1994. Vol. 10. Issue 1. P. 67-98.
- Nussbaum M. The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2013. 584 p.
- Setaioli A. Ethics I: Philosophy as Therapy, Self-Transformation, and "Lebensform" // Brill's Companion to Seneca Philosopher and Dramatist. Leiden; Boston: BRILL, 2014. P. 239-256.
- Woodward J. B. A Russian Stoic? A Note on the Religious Faith of Jurij Dombrovskij // Scando-Slavica. 1992. Vol. 38. No. 1. P. 33-45.