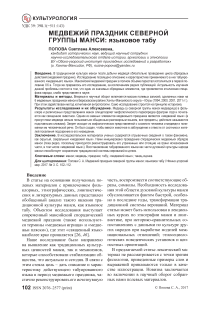Медвежий праздник северной группы манси: языковое табу
Автор: Попова Светлана Алексеевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Введение. В традиционной культуре манси после добычи медведя обязательно проведение цикла обрядовых действий (медвежий праздник). Исследование посвящено описанию и характеристике применяемого в них табуированного «медвежьего языка». Мансийский медвежий праздник в полном объеме перестал исполняться в первой половине XX в. Тогда же прервалось его исследование, за исключением редких публикаций. Актуальность изучения данной проблемы состоит в том, что один из значимых обрядовых элементов, где проявляется этническая специфика народа, слабо представлен в науке. Материалы и методы. Впервые в научный оборот включается массив полевых записей, сделанных нами на 6 медвежьих праздниках манси в Березовском районе Ханты-Мансийского округа - Югры (1994, 2000, 2001, 2011 гг.). При этом задействован метод когнитивной антропологии. Само исследование строится на принципе историзма. Результаты исследования и их обсуждение. Медведь (у северной группы манси медведица) в фольклоре и религиозных представлениях манси олицетворяет мифологического первопредка фратрии пор и почитается как священное животное. Одним из важных элементов медвежьего праздника является «медвежий язык» (в присутствии медведя нельзя пользоваться обыденным разговорным языком, все предметы, действия называются подставными словами). Запрет исходит из мифологических представлений о схожести человека и медведя и понимании им человеческой речи. Он был создан, чтобы ввести животное в заблуждение и отвести от охотника и жителей поселения подозрение в его низведении. Заключение. В исследовательских материалах ученых содержатся отрывочные сведения о таком феномене, как скрытый, сакральный «медвежий язык». Нами инициировано проведение спорадических медвежьих обрядов манси (пока редко, поскольку приходится реконструировать его утраченные или стоящие на грани исчезновения части, в том числе «медвежий язык»). Восстановление табуированного языка как части духовной культуры народа манси способствует сохранению традиционной системы верований в целом.
Манси, медведь, праздник, табу, "медвежий язык", танец-сценка
Короткий адрес: https://sciup.org/14723354
IDR: 14723354 | УДК: 39:
Текст научной статьи Медвежий праздник северной группы манси: языковое табу
В статье на основании полученных полевых материалов с привлечением фольклорных, этнографических, лингвистических и литературных данных представлен обобщенный анализ такого явления традиционной культуры манси, как языковое табу. Объектом исследования выступает современный мансийский спорадический медвежий праздник (также используются термины «медвежьи игрища» и «медвежьи пляски»), где этот «священный язык» наиболее ярко проявляется [26, 46 ].
Наше исследование было направлено на выявление как традиционных культурных ценностей манси, так и механизмов, которые способствовали стабилизации общества, что актуально и сегодня. В связи с этим стояла цель - дать описание и характеристику действующего табуированного языка в период медвежьего праздника, частично реконструировать его исчезнувшую
102 ISSN 2076-2577 (print)
часть, воспроизвести соответствующие образы, символы. Необходимость исследования этой области духовной культуры манси обусловливается фактом быстрой, особенно в последние годы, трансформации традиционной системы верований. Материал статьи может быть использован в лекционных курсах по этнографии манси и лингвистике, при историко-сравнительных сопоставлениях с данными по культуре других народов при выработке моделей межнациональных отношений; этносоциоло-гических поведенческих установок и ценностных ориентаций.
В предлагаемой статье лексический материал не рассматривается с точки зрения филологии, приведенные примеры слов и выражений привлекаются только в качестве иллюстрации. Новизна заключается во включении в научный оборот собранных нами полевых материалов.
Материалы и методы
Методологическую основу статьи составляют общие теоретические положения, разработанные зарубежными и отечественными учеными с позиций когнитивной антропологии. Сохраняется принцип историзма, т. е. предмет исследования рассматривается в развитии на определенном историческом этапе. Материалом послужили полевые записи, сделанные нами на мансийских медвежьих праздниках в с. Сосьва (1994), д. Кимкьясуй (1994), д. Хулимсунт (1994, 2001), д. Ломбовож (2000), на р. Лэпля (2011) Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Обзор литературы
Описание мансийского медвежьего праздника как этнографического феномена можно обнаружить и в источниках прошлых столетий, и в современных: Н. Л. Гондатти, А. Алквиста, А. Канни-сто, Б. Мункачи, И. И. Авдеева, В. Н. Чернецова, З. П. Соколовой, Е. И. Ромбандее-вой, Н. И. Новиковой, С. А. Поповой [1; 2; 15; 16; 20; 22; 26 и др.]. Особо следует отметить книги зарубежных исследователей мансийского языка и культуры – финна Артура Каннисто и венгра Берната Мунка-чи. Содержание четвертого и пятого томов собрания сочинений А. Каннисто составляют материалы медвежьего праздника, записанные автором в экспедиции к северной группе манси (1901-1906) и опубликованные на немецком языке (1958, 1959). Впервые российскому читателю они стали доступны в 2016 г. благодаря их переводу на русский язык доктором исторических наук Н. В. Лукиной [7; 10]. Третий том из многотомного собрания Б. Мункачи «Вогульская народная поэзия» также посвящен медвежьим песням. Они были записаны у манси сначала А. Регули (1843– 1845), а затем Б. Мункачи (1888-1889), изданы в начале XX в. в Венгрии на основе латинской финно-угорской транскрипции и на венгерском языке. Перевод с мансийского языка на русский был выполнен доктором филологических наук Е. И. Ромбан-деевой [11].
Система запретов в религиозных воззрениях основана на связи с тотемизмом, в данном случае с культом медведя, но это более широкое понятие, включающее в себя представления о медведе, обряды, связанные и с охотой на него, и с поеданием его мяса, и с хранением его костей. На медвежьем же празднике особо выделяются извинительные и умилостивительные обряды, песнопения, танцы, драматические действа [22, 41 ]. Исследователь культуры обских угров Н. В. Лукина дает сравнительный материал по культу медведя, где затрагивает в том числе труды указанных авторов, и приходит к выводу: «Проблема генезиса культа медведя и медвежьего праздника у обских угров рассматривалась главным образом в мировоззренческом плане» [8, 179 ]. Однако в них почти нет данных, где бы языковое табу изучалось с точки зрения миропонимания. Безусловно, ученые констатируют, что «скрытный, тайный, подставной язык» присутствует в культуре, и в качестве примера иногда приводят немногочисленный список слов и выражений. Однако он никогда не подвергался специальному исследованию (свидетелями праздника) и в литературе об этом языке содержатся лишь отрывочные сведения [2, 40 ; 8, 179 ; 22, 49 и др.].
С точки зрения лингвистического материала иносказательная речь непосредственно анализируется в работах филологов: монографии М. Бакро-Надь [28], статье К. В. Афанасьевой [3] и докладе Д. В. Герасимовой [4]. М. Бакро-Надь по имеющимся на тот момент опубликованным источникам описала 486 терминов (табу), среди них 132 названия медведя [28, 109]. Из всех обозначенных ею слов и выражений 211 относятся к мансийскому (вогульскому) языку. Ею дается ссылка на другого венгерского исследователя – Б. Мункачи, считавшего, что «едва ли есть еще язык, который создал бы так много слов табу в культе медведя, как обско-угорские языки» [28, 19]. Рассмотрев лексический материал, М. Бакро-Надь приходит к выводу: «Почитание медведя как священного зверя существовало уже в обско-угорское время» [28, 126]. На- чало обско-угорского времени относится к рубежу II и I тыс. до н. э., как уточняет Н. В. Лукина со ссылкой на П. Хайду [8, 179; 24]. Отсутствие слова «медведь» говорит о глубокой древности его культа, а необычайно богатая и развитая терминология, относящаяся именно к этому животному, дает тому подтверждение. Известный ученый, носитель языка и культуры манси К. В. Афанасьева сведения по табуированной лексике излагает на примере мансийского медвежьего праздника в среде ивдельских манси (д. Пума-Пауль, Ивдельский район, Свердловская область, 2005 г.). Всего ею выделено 59 слов и выражений, называющих медведя, части его тела и внутренние органы, предметы и действия, связанные с ним. Здесь же отмечены некоторые слова, имеющие отношение к культу медведя [3, 85-92]. Другой ученый-лингвист из манси - Д. В. Герасимова - показывает 60 слов и выражений «особого», «секретного» языка (манс. уй-латыу), выписанных ею из фольклорных материалов Б. Мункачи [4, 87].
Результаты исследования и их обсуждение
В этнографических источниках в первую очередь обращают на себя внимание материалы по социальной организации северной группы манси, которая еще в начале ХХ в. состояла из двух фратриальных объединений - пор и мощ. В изначальное обско-угорское время, в период этнического образования северных манси, медведю/медведице отводилась роль фратриального первопредка объединения людей пор [13, 22, 43-71; 20, 89-100; 23, 548-549; 27, 20]. Новообразования происходили за счет миграционных процессов и находили отражение в мифологии и религиозных представлениях. Одно земное (местное) воплощение определяется, например, превращением в медведя сына земной женщины [9, 80; 21, 16-17]. Медведя признают кровным родственником и называют его соответственно āпсикēв ‘наш братик’, йигтев ‘наша [ласковая] младшая сестренка’, сасыг ‘дядя по матери’, аки ‘дядя по отцу’, ōпа ‘дедушка’. Небесное или божественное происхожде- ние он/она получает по рождению, будучи мифологическим сыном/дочерью Верховного бога (манс. Нуми Торум), который спустил его/ее на Землю, являя собой, пришлое население. «В этом мифологическом родстве прослеживаются древние тотемические черты, в XIX - начале XX в. в значительной степени уже стершиеся» [12, 10]. Следовательно, как божество и родственник (первопредок) он/она является объектом поклонения и почитания, а в реальности – животное, предмет охоты. Табу прежде всего налагается именно на названия животных, выступающих объектом охоты и поклонения (имеющих отношение к божеству).
По народной терминологии церемонию по случаю добычи медведя сами манси называют ӯй йӣкв ‘зверя танец’, ӯй йӣквуӈкве ‘зверя танцевать’, уй ййкваве ‘зверя танцуют’, иногда говорят уй ёнгаве ‘зверя играют’ (в слове ӯй ‘зверь’ скрыто название медведя). Если добыт медведь, то «зверя танцуют/играют» 5 дней, если медведица – 4 дня.
Структура спорадического медвежьего праздника манси несет в основе следующие обрядовые действия: установление места берлоги; добыча, доставка и встреча в поселении; подготовительные мероприятия; очищение и гадание; собственно праздник, сопровождающийся песнопением, танцами и драматическими представлениями; жертвоприношение животного; священная ночь с показом духов-предков; разрушение стола, вынос, проводы и поминки. Данная структура осталась в неизменном состоянии до настоящего времени. Разница состоит в наполняемости обрядовых действий: в каких-то элементах они представлены более полно, а где-то недостаточно. На это, безусловно, повлияли и длительный запрет на его проведение в советское время, и физическое уничтожение исполнителей обрядовых церемоний в годы репрессий и войн. Однако манси никогда не прекращали его проводить, так как медведя добывали во все времена, а не почтить его было непростительным грехом. В период запрета праздновали тайно, только в своих семьях и, естественно, в укороченном варианте, о чем неоднократно вспоминали пожилые информанты. В качестве примера можно привести рассказ А. Анемгуровой (Самбиндаловой): с мужем они постоянно жили в охотничьей избушке на р. Тапсуй, и когда случалось Устину (так звали мужа) добыть медведя, они обязательно его «плясали», причем вдвоем, поскольку были бездетные [14].
В конце ХХ - начале XXI столетия, на пике движения в защиту сохранения и возрождения традиционных культур, нам представилась возможность принять участие в шести спорадических медвежьих праздниках северной группы манси. Обладатели добычи, они же устроители праздников, говорили, что стараются выполнять те же правила, что их отцы и деды: «Иначе поступать по отношению к медведю неприлично».
Из наблюдений охотников известно, что освежеванный остов животного похож на скелет человека, отличается только размер конечностей, у зверя они короче. Отмечается и то, что некоторые повадки медведя аналогичны действиям человека [15, 25 ; 21, 17–18 ]. В фольклоре манси сохранились мифы о превращении человека в медведя, имеется множество рассказов (байки, былички и бывальщины) о случайных встречах со зверем. Например, «при встрече человек оказался без оружия, и убеждает медведя разговорами не нападать: “У тебя когти и клыки, а у меня, смотри, только руки одни. Что же ты на меня полезешь?”. Медведь устыдился и ушел. В других рассказах, наоборот, животное разрывает охотника, который хвалился, что не боится медведя и отзывался о нем иронически. Не менее типичны рассказы о человеке-оборотне» [5, 263 ]. Очевидно, из подобных наблюдений за жизнью и повадками зверя сложились представления о его сходстве с человеком, в том числе о его способности понимать человеческую речь. Чтобы нечаянно не выдать словом действия, связанные с его добычей, необходимо ввести хищное животное в заблуждение и тем самым отвести «подозрение» медведя от охотника и жителей поселения. С этой целью установился обычай пользоваться
«медвежьим языком», хотя на нем говорят люди, а не животное.
Если речь заходит о медведе, то о нем говорят только иносказательно: вōртōлнут ‘в лесу живущий’; мāколыӈ ойка ‘земляной дом имеющий мужчина’; уй ‘зверь’; торев ‘белый’ (в значении «священный»); ялпыу уй ‘священный зверь’; ӯй āги ‘зверь-девушка’ (т. е. зверь женского пола); консыу ойка ‘когтистый мужчина’; унт ӯй ‘лесной зверь’; нёрум уй ‘ползучий зверь’ ( нёрнэ ‘ползучий’ + притяжательный суффикс - ум ) и др. К сожалению, из обихода постепенно уходят названия, в которых заложена символика древнего миропонимания народа. Например, для северных манси, особенно с верховьев реки Северная Сосьва (верхне-сосьвинские манси), было характерно символическое обращение к медведице, где в качестве корневой основы выступали названия древней финно-угорской матери - ань , щищ . В современном языке они уже не используются: уй ань щех , ак ань щех , ань щех, щищ к-ве (в статье этимология данных слов не рассматривается). Кроме того, отличительная черта этой общности манси заключается в подчинении религиозных и мифологических представлений женскому персонажу, а именно дочери высшего божества манси Нуми Тōрума , богине, героине-богатырке, воительнице, матери и медведице. Такая особенность имеет связь с этногенезом обитателей территории верховьев Северной Сосьвы. Вопрос складывания локальных (диалектных) групп северных манси, в том числе верхне-сосьвинской, на основе мифологических миграций, предшествующих определенным историческим событиям, был рассмотрен нами в предыдущих статьях [17; 18; 20].
Здесь же важно отметить, что существует ряд вариантов мансийского мифа о первопредках - основателях жизни на территории проживания манси. В одном из них говорится, что Нуми Торум спустил с небес на остров, находившийся посередине незамерзающего моря/озера, своих повзрослевших детей – пятерых сыновей и дочь. Сделал он это в наказание за их ослушание, поскольку они постоянно перечили отцу. Но дети проявили смекалку и сумели выбраться. Один из братьев вызвал Северный Ветер, море/озеро покрылось тонким слоем льда, и они выбрались на сушу, затем они разошлись по разным уголкам Земли и там положили начало жизни. В тех местах их почитают как родоначальников и хранителей земли [21, 51–52]. В другом варианте говорится, что Нуми Тōрум спустил своих детей, чтобы управлять людьми, которые скоро должны были появиться на Земле. Всего в северном наречии мансийского языка шесть самостоятельных диалектных групп, «границы которых совпадают с границами первоначальных предков, выделенных на основе некоторых языковых отличий» [21, 58]. Каждая группа почитает первоначального предка своей территории (манс. акиянув-акванув ‘наши деды-бабушки’), через них осознается единство происхождения и определяется родство между людьми. Для населения, проживающего в верховьях реки Северная Сосьва, территориальным духом-покровителем является дочь Нуми Торума - Нярас Най Эква ‘[В] отверстиях болотных кочек [обитающая] Богиня-Женщина’ (лусхал Эква ‘лягушка’, так называют ее по образу) [14]. По функциям, которые на нее возложены, она – Няросыу Най ‘Богиня, обладающая румянощеким [т. е. здоровым] потомством’ [21, 57]. Ее божественное происхождение, небесная жизнь и спуск отцом на Землю нашли отражение в песнях-мифах о Медведице. То, что первоначально на Земле появляется медведица, а не медведь, отмечается исследователями мансийского медвежьего праздника [25, 46, 51; 27, 40].
В религиозных воззрениях манси медведь, как и человек, имеет душу, которая после его смерти может реинкарнироваться. В связи с этим охотники представляют, что они не убили, а низвели животное – ӯй вāгылттаӈкве ‘зверя силу спустить’, т. е. обессилить, сделать его слабым, или ӯй с Э луукве ‘зверя приобрести’. В обоих случаях имеется в виду не полное физическое уничтожение, а только опускание лишь на некоторое время с изначального (мифологического) места проживания [19, 39 ].
В преддверии охоты на животное первое правило для охотников - это молчание: вōраян элы-пāлыт миннэ мāн овылтыт лавуукве ат рови ‘перед выходом на место охоты нельзя говорить, куда идешь’ (иначе разговор может подслушать вездесущий дух медведя, и тогда охота может обернуться бедой). С подобной целью проводится маскировка: прежде чем ступить на охотничью тропу (манс. яча ), охотники очищают одежду и снаряжение от запаха жилья, натирая их пихтовой хвоей, окуривая дымом можжевельника, пихты, тлеющей чаги, чтобы зверь не учуял приближение человека. С момента обнаружения берлоги начинают пользоваться иносказательной речью: ōйка вāгылттан порат ялпыӈ лāтӈытыл эри потыртаукве ‘во время обессиливания мужчины [т. е. добычи медведя] следует разговаривать священным языком’. Процесс добычи зверя охотники также скрывают: сэмлыг паттаве ‘черным уронить [сделать]’ (здесь лексема «черный» означает не цвет, а состояние); кāтын паттыс ‘в руки упал’ (а не добыл или, тем более, убил).
В разных диалектных группах северных манси табуированный язык почти не различается, но иногда встречаются слова, в значение которых охотники вкладывают иной смысл. Например, верхне-сосьвинские манси передние лапы из-за их силы и мощи (манс. лющи ) называют катлаг ‘нечто, имеющее силу’ и не приемлют как катаге - лаглаге ‘руки-ноги его’ (лапы). Охотники объясняют, что для такого сильного зверя «лапа» - это нечто слабое по сравнению с кāтл – силой, которая может свалить в один миг, поэтому, когда эту силу называют «руки-ноги (его)», для медведя это оскорбительно [14]. То, что лапа - страшное и грозное оружие для человека, можно обнаружить в словах дающего клятву, например: «Если я обманул, то пусть меня настигнет (убьет) дно колчана со стрелами моего Дяди», где ладонь табуируется как дно колчана, когти - стрелы, а Дядя – медведь [10, 312 ].
После удачного исхода охотники делают вид, что перед ними лежит вовсе не медведь: «Ну вот, мы старались, стара- лись, оказывается, это мохнатая собака Ӯсыӈ ōтыр ōйки ‘Мужчина, обладающий городом’» [21, 119]. А затем начинают оправдываться: «Это не мы сделали, а ружье». Ритуально обставляются «снятие шубы» (шкуры) и разделка туши. Голову от шкуры не отделяют, ее сворачивают и укладывают на специально изготовленное из черемуховых или таловых прутьев ложе (манс. апа ‘детская колыбелька, люлька’) в так называемой ритуальной позе – голова лежит на вытянутых передних лапах. В источниках эта поза трактуется как жертвенная или спящего медведя [23, 562]. По представлениям манси, он только что родился (манс. ущ самыӈ патум), поэтому на месте добычи его укладывают, как младенца, в люльку и больше не перекладывают.
Охотники, участники перевоза медведя с места добычи к поселению, должны по пути следования отмечать памятные места, почитаемые предками, – святилища, озера, реки, ручьи и т. д. Возле каждого достойного внимания места нарты останавливаются, охотники громко объявляют название, а один из участников должен спеть или рассказать, чем оно примечательно. Затем четыре или пять раз, в зависимости от пола животного, выкрикивают: Ӯй сāлы воли охо-о-ов ! ‘[Здесь] зверь - олень!’. Этими выкриками медведя, как низведенного, вводят в заблуждение, поскольку считается, что таким образом для него устраивается прощание с местами, где он бывал, а олень – его пища. С другой стороны, его, как младенца, знакомят с будущими местами пребывания. Молодые охотники сожалеют, что могут отметить совсем немного мест. В лучшем случае остановятся и выкрикнут: Уй салы воли охо-о-ов !, а пропеть или рассказать, чем памятно это место, уже некому. Эта обрядовая часть, а вместе с ней и целый пласт табуированного языка утрачены безвозвратно.
Наиболее активно пользуются «медвежьим языком» в доме, где «танцуют» зверя. Все слова, имеющие отношение к названию частей тела и внутренних органов медведя, используются в притяжательной форме. Например, соваге ‘звезды
[две] его’ – глаза; аватэ ‘его крыша-навес дома’ - голова; нясанэ ‘крючки его’ - когти; сахитэ ‘его шуба [женская меховая верхняя одежда]’ – шкура; тарыг пāквитэ ‘сосновая шишка его’ – сердце; хулахе ‘его ворон’ - печень; сэнге ‘трутовик его’ (так называется широко применяемая в обрядах чага, семейство трутовых грибов) – ноздри.
Табуируются не только части тела и внутренности медведя, но и окружающие животные и предметы: ханса ‘узор’ - дорога; л э гынут , ‘[нечто] хвостатое’ - собака, ее еще называют хосал э г ‘длиннохвостое’; суиу ‘нечто, [издающее] звук’ - ружье; саквалякв ‘сорока’ - ложка; элмиуут ‘вещь, [имеющая] острие’ – нож; атыӈут ‘сладкая вещь’ - соль; кёрхурыт ‘железные [керамические] полости’ – чайные чашки’; нурыуут ‘мстящая вещь’ - котел; войканут ‘белая вещь’ – стружка для обтирания рук; щакв ‘молоко’ – вода; ватнут ‘нечто собираемое’ - мясо. Головной убор исполнителей священных танцев называется тольхау нуй ‘неводное сукно’ ( тольх ‘невод’ + нуй ‘сукно’), он сшит из семи полосок (кусочков) сукна разного цвета, которые ассоциируются с ячейками невода.
Табу – не только явление языка, оно может распространяться и на действия людей, например вāтуӈкве ‘собирать [что-либо]’ – есть-пить: в «медвежьем языке» есть выражение щакв вāтуӈкве ‘молоко собирать’, что в обыденной речи означает - вит аюукве ‘воду пить’. Другой пример: ȳй пормас вāтуӈкве ‘зверя имущество (добро) собирать’ – есть мясо [медведя]. Табу может быть наложено и на употребление какой-либо пищи, например бульон, в котором варилось мясо медведя ( сōс вит ‘святая вода’), в пищу не идет, его сливают. Кроме того, женщинам нельзя есть голову, сердце и печень медведя, а мужчинам – его заднюю часть. Табу накладывается и на поведение, например первый кусочек мяса подается каждому в рот на кончике ножа, и тот, кому подали, проговаривает: хорх-хорх-хорх (манс. хōрхатэ̄гыт ), как бы подражая ворону (манс. хулах ). Такое поведение предпринимается с целью соз-
КУЛЬТУРОЛОГИЯ дать впечатление, что мясо медведя едят не люди, а птицы. К. Г. Адин, наш неизменный помощник и информант, рассказал: «В старину, поев мяса, каждый берет войканут ‘белая вещь’, а в будничной жизни оссы (тонкая стружка, нарезанная ножом длинными полосками, мягкая, как вата), обтирает ею вокруг рта и руки. Затем опаливает (окуривает) ее и обматывает руки» [14]. К слову, медвежье мясо было не на всех праздниках (на которых мы присутствовали), так как случалось, что от времени добычи до дня проведения праздника промежуток составлял несколько месяцев. Откладывать дни празднования можно, а мясо долго не хранится.
Что касается словарного запаса тайного языка и его восполнения, поскольку медвежий праздник проводится не так часто, то в его сценарии предусмотрена сценка (манс. тулыглап), которая дает начальный курс его изучения. На всех отмеченных праздниках первой разыгрывалась сценка-танец Пищ-пищ, что буквально означает писк мышонка, но ее называли по-разному: Эссыгхатнэ хум-рись ‘Хвастливый мужичок’, Хумрись ос мāтāпрись ‘Мужичок и [некий] мышонок’, Ёвтыӈ хум йӣкв ‘Танец мужчины с луком’. Однако, по сути, предназначение у нее одно – напомнить присутствующим о «медвежьем языке». Сценку исполняет один «артист» в двух ипостасях – охотника и мышонка. Мышонка символизирует кусочек шкурки на длинной веревке, которая привязана сзади к поясу или ноге охотника. Танец заключается в постукивании, как посохом, стрелой о пол, беге вприпрыжку по кругу и периодическом оглядывании на «мышонка», который якобы догоняет. Охотник хвастливо заявляет, что никого и ничего не боится, мышонка обзывает: «кусок тундрового мха; носатый; маленький, как соринка; плюгавенький зверек». Тот в свою очередь отвечает, что может стать большим, как мамонт, и съесть хвастуна. Сделав несколько кругов, охотник вдруг замечает присутствие головы медведя, останавливается, затем то ближе подойдет к ней, то отбежит, делая вид, что весь дрожит от страха, и спрашивает: «А ты кто такой? Ой, беда, беда! У лесного бора серебряное бревно. Правда ли, ты – хозяин леса?». Продолжая танцевать перед медведем, перечисляет части его тела, внутренности, называет наиболее употребляемые предметы. Затем охотник снова бегает вприпрыжку по кругу и хвалится, что никого и ничего не боится, даже медведь ему нипочем, он может придавить его ногтем. В какой-то момент начинает пищать голосом мышки: «Хр-р, хр-р-р! пищ-пищ! Я могу вырасти с мамонта, я могу стать медведем. Я тебя, хвастунишку, сейчас поцарапаю». В этот момент слышится рев медведя, и охотник падает замертво [14]. Известно, что в представлениях манси мышь является одной из ипостасей медведя: «Бежит мой разгневанный дух в образе хвостатой мыши». За хвастовство и непочтительное отношение к себе медведь может и разодрать, поэтому и испугался хвастливый охотник. Здесь важно то, что присутствующая публика не только слышит слова, сказанные артистом в адрес зверя, но и подсказывает новые, которые он еще не произнес. Это один из предусмотренных способов вспомнить табуированную речь. На современных спорадических праздниках «медвежьим языком» пользуется старшее поколение, молодежи приходится его выучивать уже в процессе церемонии.
Последняя из 4 или 5 отмечаемых ночей считается священной, в эту ночь разыгрываются торжественные представления яныг тӯлыглап ‘большие [драматизированные] танцы’ («большие» в данном контексте означает «главные, важные»). В эту ночь к голове медведя поочередно подводятся духи-предки манси нāй - ōтыры ‘героини-богатыри’. В религиозных представлениях манси из всех почитаемых духов-первопредков медведь является последним и потому самым младшим. Считается, что ему показывают образы и рассказывают в призывных песнях-речитативах о старших (древних) представителях плеяды богов. По сути, через него (или вместе с ним) присутствующие получают знания древней истории своего народа.
Одеяние вводимых первопредков отличается от типа одежды, которую носят манси, - распашной покрой верхней одежды (вместо глухого покроя меховой малицы); суконная шапка имеет форму конуса и меховую окантовку; платок/косынка, которым прикрывается часть лица, - из шелковой ткани. Название одежды табуируется, например верхняя распашная одежда (халат) называется ярмак сахи ‘шелковая шуба [женская]’ и сравнивается с женской (меховой или суконной) верхней одеждой на завязках. Обувь иносказательно называется сāс патта ‘берестяная подошва’. Обычно берестяные пластинки прикрепляют к подошве обуви в период обрядов, исполняемых на священном/культо-вом месте. Считается, что они защищают сакральную землю от соприкосновения с подошвой, «нечистой» частью ноги [19, 73 ]. Шелковая косынка ассын - шейный платок на покойнике. Действия некоторых вводимых персонажей также необычны для традиции манси: изображают, как, размахивая плетью, скачут верхом на лошади, исполняют танец с саблями и др.
Информационная насыщенность священной ночи сконцентрирована в ее языке и символике. Например, общая направленность названий одежды и обуви имеет отношение к погребальной обрядности, что символизирует давно ушедших в иной мир предков. Язык призывных песен-речитативов доносит до нас не только рассказы об их героическом прошлом, но о серебре/золоте, шелковых одеяниях, что напоминает традиции соседних степных тюркоязычных народов. З. П. Соколова по этому поводу пишет: «Отдельные его элементы (а именно связанные с южными культурами) характерны лишь для манси и северных, отчасти южных групп хантов» [23, 568 ].
Таким образом, с первого по последний день из всего услышанного и увиденного медведь/медведица, якобы, получает информацию о событиях с мифологического первоначального времени до сегодняшнего дня. По мере посвящения во все таинства и святыни коллектива через исполня- емые участниками песни, представления, танцы и музыку он/она из младенца, уложенного в колыбель, к окончанию праздничной церемонии «превращается» во взрослого матерого зверя. В последнюю ночь проводится обряд отправления его обратно к отцу, в Верхний мир (на прежнее место обитания). В современных проводах медведя в Верхний мир сохраняется табу не говорить о нем и тем более не показывать состояние его смерти, например отвлекают скрипом; при выносе устраивают борьбу за нарты, где он находится; мясо медведя варят только на улице и т. д.
Заключение
Табуированный «медвежий язык» является одним из самых древних пластов лексики мансийского языка, через него проявляется этническая специфика обско-угорского медвежьего праздника. В нем не наблюдаются новообразования и заимствования. Хотя, например, такое известное мансийское слово, как пупыг ‘дух, божество’, считается заимствованным из коми языка, но оно может иметь и древне-уральскую основу.
Сегодня, с утратой языка и традиций манси в целом, «медвежий язык» становится беднее. Часто, особенно в языке молодежи, проскальзывают заимствования, дополняющие нехватку запаса слов.
Иносказательная речь присутствует в каждом обрядовом комплексе спорадического медвежьего праздника манси. Это связано с запретом прямо упоминать божество в облике хищного зверя. Особого таинства и скрытости требуют действия, имеющие отношение к смерти, - подготовительный этап, низведение, перевозка в поселение и отправление обратно на небо. В локальных языковых (диалектных) группах манси наблюдаются некоторые различия в табуированной речи. Сегодня праздник по случаю добычи медведя проводится редко, однако востребован, поскольку в его основе заложена выработанная тысячелетиями составляющая для сохранения и поддержания благоприятного психологического климата в коллективе и обществе в целом.
Поступила 03.08.2017, опубликована 13.12.2017
Список литературы Медвежий праздник северной группы манси: языковое табу
- Авдеев И. И. Песни народа манси. Омск: Омгиз, 1936. 127 с.
- Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этнографические заметки/пер. с нем. и публикация д-ра наук Н. В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 179 с.
- Афанасьева К. В. Табуированная лексика, связанная с культом медведя в мансийском языке (по данным ивдельских манси)//Вестник угроведения. 2006. № 2. С. 85-92.
- Герасимова Д. В. Табуированные названия медведя в мансийском языке (по данным фольклорных названий Б. Мункачи)//Медведь в культуре обско-угорских народов: материалы V Югорских чтений. Ханты-Мансийск, 2002. C. 82-87.
- Источники по этнографии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. 284 с.
- Каннисто А. О медвежьих обрядах вогулов/пер. с нем. Н. В. Лукиной//Поэтика жанров фольклора народов Сибири: Миф. Эпос. Ритуал. Новосибирск, 2007. С. 74-87.
- Каннисто А., Лиимола М. Драматические представления на медвежьем празднике манси/пер. с нем. яз. и публикация Н. В. Лукиной. Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2016. 242 с.
- Лукина Н. В. Общее и особенное в культе медведя у обских угров//Обряды народов Западной Сибири. Томск, 1990. С. 179-191.
- Люцедарская А. А. Медвежьи песни как феномен культуры сибирских угров//Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 78-83.
- Мансийские песни о Медведе в записи Артура Каннисто/сост. и пер. с нем. яз. Н. В. Лукиной; консультант по мансийской лексике С. А. Попова. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 328 с.
- Медвежьи эпические песни манси (вогулов) из III тома Мункачи Берната/сост., пер. Е. И. Ромбандеевой. Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2012. 658 с.
- Новикова Н. И. Традиционно-бытовые праздники манси: к проблеме этнокультурных контактов обских угров во второй половине XIX -начале XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Москва, 1986. 20 с.
- Новикова Н. И. Традиционные праздники манси/Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва: , 1995. 222 с.
- Полевой материал автора. БФ ОУИПИиР. 1994 -1999 гг.
- Попова С. А. Медвежий праздник на Северном Урале. Ханты-Мансийск: Новости Югры, 2011. 76 с.
- Попова С. А. Медвежий праздник на Северном Урале. 2-е изд., перераб., доп. Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2017. 76 с.
- Попова С. А. Миграции манси и фольклорные мотивы: к проблеме фольклора как исторического источника (на примере северной группы манси)//Вестник угроведения. 2016. № 4 (27). С. 101-113.
- Попова С. А. Мифологические компоненты в этнической истории северной группы манси//Меншиковские чтения-2015: всерос. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2016. С. 94-103.
- Попова С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 180 с.
- Попова С. А. Роль периодического медвежьего праздника Яныг йикв в формировании социума северных манси//Вестник угроведения. 2015. № 1 (20). С. 89-100.
- Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов). Сургут: Северный дом, 1993. 207 с.
- Соколова З. П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сибири//Этнографическое обозрение. 2002. № 1. С. 41-62.
- Соколова З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в./Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: Наука, 2009. 756 с.
- Хайду П. Уральские языки и народы. Москва: Прогресс, 1985. 430 с.
- Хэкель Й. Почитание духов и дуальная система у угров (к проблеме евразийского тотемизма). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 180 с.
- Чернецов В. Н. Медвежий праздник у обских угров/пер. с нем. и публикация д-ра ист. наук Н. В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 49 с.
- Чернецов В. Н. Фратриальное устройство обско-югорского общества//Советская этнография. 1939. № 2. С. 20-40.
- Bakró-Nagy M. Die Sprache des Bärenkultes im Ob-ugrischen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. 141 s. ("Bibliotheca Uralica 4")