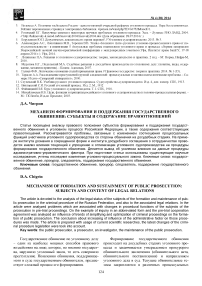Механизм формирования и поддержания государственного обвинения: субъекты и содержание правоотношений
Автор: Чигрин Д.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу правового положения субъектов формирования и поддержания государственного обвинения в уголовном процессе Российской Федерации, а также содержания соответствующих правоотношений. Рассматриваются проблемы, связанные с изменением соотношения процессуальных функций участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения на досудебных стадиях. На примере института дознания в сокращенной форме и института досудебного соглашения о сотрудничестве проводится анализ влияния тенденций к упрощению и оптимизации уголовного судопроизводства на процедуры формирования государственного обвинения. Делается вывод об усилении влияния на данные процедуры административно-управленческого фактора. При подготовке статьи использованы существующие научные исследования, учтены последние изменения уголовно-процессуального закона. Ключевые слова: государственное обвинение, прокурор, следователь, поддержание государственного обвинения.
Государственное обвинение, прокурор, следователь, поддержание государственного обвинения
Короткий адрес: https://sciup.org/142233687
IDR: 142233687
Текст научной статьи Механизм формирования и поддержания государственного обвинения: субъекты и содержание правоотношений
Государственное обвинение по уголовному делу - один из наиболее мощных способов правового воздействия на лицо, которое, по мнению государства, нарушило уголовный закон, то есть совершило преступление. Появлению обвинения, поддерживаемого в суде государственным обвинителем, предшествует сложный процесс его формирования.
Формирование государственного обвинения происходит на досудебных стадиях уголовного процесса и заканчивается утверждением прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления) и направлением уголовного дела в суд. Текущие обвинительные тезисы закрепляются в различных процессуальных актах, принимаемых в ходе предварительного расследования. С разной степенью конкретизации и с разным уровнем обоснованности обвинительный тезис формулируется в постановлении о возбуждении уголовного дела, уведомлении о подозрении, постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении. Косвенно, во вторичном варианте, обвинительный тезис присутствует также в постановлениях об избрании любых мер пресечения, а также - иных мер процессуального принуждения в отношении подозреваемого или обвиняемого (например, в постановлении об отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности). Принятие каждого из этих решений сопряжено с реализацией комплекса правовых норм, определяющих процедуры формирования доказательственной базы, требования, предъявляемые к порядку принятия процессуальных решений, процедуры их обжалования и изменения, уголовноправовые требования квалификации преступного деяния и др.
Помимо требований уголовно процессуального закона важную роль в этом играют факторы психологического характера. Межличностные взаимодействия участников процесса, негласные обычаи применения процессуальных норм, а также особенности реализации субъектами процесса своих дискреционных полномочий оказывают существенное влияние на фактический характер деятельности правоприменителя.
Базовым требованием к правовому механизму, имеющему целью формирование законного и обоснованного государственного обвинения, является его способность учитывать весь спектр возникающих на практике обстоятельств и противодействовать совершению участниками процесса действий, не соответствующих букве и духу закона. Одним из наиболее эффективных способов построения подобной правовой конструкции стала система, предусматривающая четкое разграничение процессуальных функций и состязательность сторон обвинения и защиты. УПК РФ 2001 г. значительно изменил существовавшую систему уголовно-процессуальных функций. На облик досудебного и судебного производства повлияли внедрение в уголовный процесс принципа состязательности, общая демократизация правовых предписаний, усиление диспозитивных начал, ориентация на международные стандарты прав человека и правосудия.
Принятие Федерального закона № 87-ФЗ от 05.06.2007 г. [1] вновь изменило соотношение процессуальных функций субъектов, чья деятельность напрямую связана с формированием государственного обвинения. Пополнение участников уголовного процесса со стороны обвинения фигурой руководителя следственного органа и изменение в связи с этим компетенции прокурора повлияло на процедуры формирования государственного обвинения.
Полагаем, что введение в УПК РФ нового участника процесса, наделенного широкими контрольными полномочиями, помимо прочего, преследовало цели повышения объективности и беспристрастности проводимого расследования, нейтрализации коррупциогенных факторов: оперативное процессуальное руководство расследованием в этом случае отделялось от прокурорского надзора за законностью. Вместе с тем расширение процессуальной компетенции руководителя следственного органа шло вразрез с положениями Концепции судебной реформы 1991 г. о недопустимости «процессуального подчинения следователя административным начальникам» и о необходимости создания единого следственного аппарата в стране с естественной для этого ликвидацией его ведомственной разобщенности [2, с. 85]. Возникшая в июне 2007 г. ситуация сразу привлела к себе внимание всех авторов, исследовавших проблемы досудебного производства по уголовным делам. Она нуждается в анализе и с точки зрения процессуального механизма формирования государственного обвинения.
Увеличение количества участников, представляющих сторону обвинения и наделенных процессуальной самостоятельностью, влечет за собой рост количества потенциальных разногласий. Значение спорных ситуаций, неизбежно возникающих в процессе предварительного расследования, отмечает Н.Ю. Лебедев, утверждающий, что «противоречия между следователем и руководителем следственного органа (прокурором) по вопросу квалификации, по вопросам объема обвинения и многим другим вопросам могут породить конфликт, разрешение которого позволит избежать ошибки необоснованного привлечения к уголовной ответственности невиновного» [3, с. 157].
Действительно, появление нового участника, наделенного значительным объемом полномочий, дополняющего связку «следователь-прокурор», может повлиять на законность и обоснованность формируемого государственного обвинения исключительно положительно.
Однако, не умаляя теоретической значимости подобной конструкции, необходимо поставить под сомнение возможность ее практической реализации. На наш взгляд, реформа не ограничилась перераспределением процессуальных полномочий участников, также увеличив значение административноуправленческого фактора.
Полагаем, что следствием этого стало возникновение проблем, связанных с возможностью реализации следователем своей процессуальной самостоятельности. Как пишет А.Е. Капитонов, причиной невозможности реализации процессуальной самостоятельности следователя на практике стало то, что ру-

таваться субъектом, ответственным за поддержание государственного обвинения в суде и утверждающим обвинительное заключение - акт, резюмирующий итоги предварительного следствия. В связи со сказанным, некоторые процессуалисты пишут о возникновении сомнений в возможности эффективного поддержания государственного обвинения по уголовным делам, по которым проводится предварительное следствие, ведь прокурор недостаточно знаком с материалами уголовного дела и не контролирует его ход [8, с. 179].
Следует сказать также о том, что действующее законодательство не содержит требования о поддержании государственного обвинения именно тем лицом, которое утверждало итоговый акт предварительного расследования. Вследствие этого утверждение его одним должностным лицом прокуратуры, а поддержание обвинения - другим является общепринятой практикой, что приводит к следующим последствиям.
Во-первых, прокурор, утвердивший обвинительное заключение (обвинительный акт, обвинительное постановление), de jure не принимает участия в процессе поддержания обвинения, однако de facto оказывает на него существенное влияние. Ведь, как писал А.А. Тарасов в 2001 г., ссылаясь на результаты собственных социологических исследований, «в реальности процессуально самостоятельный прокурор, поддерживающий государственное обвинение (но не являющийся прокурором по должности), как правило, собственной позиции по делу не занимает: он, как минимум, согласовывает ее с прокурором (по должности), а в случае, если тот настаивает, поддерживает позицию прокурора» [10, с. 192].
Во-вторых, из сказанного выше вытекает, что в ряде ситуаций государственный обвинитель вынужден принимать процессуальные решения, не согласующиеся с его внутренним убеждением. При этом в состязательном процессе он продолжает являться стороной, стремящейся к осуждению подсудимого.
Различие субъектов, подводящих итоги предварительного расследования и поддерживающих обвинение, подвергается критике и по причине потенциального снижения качества деятельности государственного обвинителя, поскольку, как пишет И.В. Чаднова, качество поддержания обвинения по делу, с которым прокурор не знаком, неэффективно, и прокуратуре остается надеяться на сохранение у суда «обвинительного уклона» [11, с. 188].
Последнее замечание представляется особенно важным. Большая роль суда в борьбе с преступностью, характерная для отечественного уголовного процесса до внедрения в него принципа состязательности, неминуемо делала союзниками лиц, осуществляющих правосудие, и лиц, поддерживающих государственное обвинение. Весьма сомнительно, что подобная психологическая установка, культивируе-126
ководитель следственного органа одновременно является и административным начальником, от решения которого зависят также и многие служебные вопросы, в том числе вопросы материального характера [4, с. 41]. С.А. Шейфер справедливо отмечает, что, «освободившись в определенной степени от власти прокурорской, следователь ощутил на себе еще более жестокую власть» [5, с. 399].
Другим следствием наличия в статусе руководителя следственного органа административно-управленческого элемента стала затрудненность реализации субъектами уголовного судопроизводства прав, предусмотренных в ст. 124 УПК РФ. Исследователи отмечают, что обжалование незаконного акта непосредственному руководителю правоприменителя лишено смысла, поскольку в практической деятельности данные акты зачастую проходят согласование с руководством. Признание факта нарушения закона своими подчиненными и применение к ним санкций равносильно признанию упущений в собственной административно-управленческой деятельности. Складывается ситуация, в которой законному интересу лица, чьи права были нарушены незаконным актом правоприменителя, противостоит ведомственный интерес правоохранительных органов, не заинтересованных в признании собственных ошибок [6, с. 86].
Возможность обжалования процессуального акта, содержание которого не соответствует действительности - одно из важнейших условий формирования законного государственного обвинения. Лишение участников судопроизводства данного права не может быть признано приемлемым. Полагаем, что реальность возникновения такого рода ситуаций негативно отражается и на транспарентности досудебного производства [7, с. 15-20]. Большим изменениям подвергся и статус прокурора. До июня 2007 г. прокурор в предложенной законодателем триаде уголовно-процессуальных функций олицетворял функцию обвинения [8, с. 178-179], теперь же его полномочия носят еще более выраженный надзорный характер.
Л.Г. Татьянина констатирует, что праву прокурора на внесение представления об устранении нарушений закона органами предварительного следствия не корреспондирует соответствующая обязанность руководителя следственного органа их устранить. На этом основан авторский вывод о лишении прокурора возможности эффективного реагирования на нарушения, допущенные закона органами предварительного следствия, и об уравнивании в правах прокурора и руководителя следственного органа, а значит - о возникающих сомнениях в целесообразности осуществления прокурорского надзора в подобных условиях [9, с. 433].
Несмотря на уменьшение объема полномочий в досудебном производстве, прокурор продолжает ос- мая в сознании практических работников на протяжении десятилетий, могла быть исключена лишь путем внесения изменений в законодательство. Думается, что ведомственные обычаи, имеющие идеологические корни, еще долгое время будут так или иначе себя проявлять, оказываясь в доминирующем положении по отношению к нормам закона.
Важным шагом в ликвидации обозначенных ориентаций правоприменителя стало исключение института доследования. Это поспособствовало становлению состязательности в судебных стадиях процесса. Тем не менее сложно говорить о последовательности субъектов правотворчества в данном вопросе.
Отказавшись от института доследования, законодатель методично проводил политику, направленную на его замену путем соответствующей трансформации норм института возвращения уголовного дела прокурору. Немалую роль в данном процессе сыграли решения Конституционного Суда РФ. Подробный анализ истории данного вопроса, проведенный В.А. Лазаревой, наглядно это иллюстрирует [12, с. 236-245]. В конечном итоге, принятие Федерального закона № 269-ФЗ от 21 июля 2014 г. [13] привело к фактическому возрождению института доследования в российском уголовном процессе.
По нашему мнению, наличие механизмов восполнения недостатков проведенного следствия дезавуирует как роль отдельных институтов (институт пределов судебного разбирательства), так и концепцию состязательного судопроизводства в целом, поскольку, в первую очередь, дает одной из сторон значительное преимущество.
Большое влияние на механизм формирования государственного обвинения оказывают тенденции к упрощению и оптимизации отечественного уголовного процесса. Особое внимание следует обратить на дознание в сокращенной форме и особый порядок принятия судебного решения при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Необходимо отметить важность их глубокого теоретического осмысления с целью воплощения в законе единой и непротиворечивой концепции формирования государственного обвинения.
Несмотря на очевидную экономическую обоснованность, подобные решения не всегда в полной мере согласуются с духом уголовно-процессуального закона, а также с моделями реального поведения субъектов правоприменительной деятельности. Говоря о проведении дознания, нужно отметить, что в процессе расследования сами нормы закона не позволяют дознавателю в полной мере действовать по своему усмотрению. Этому препятствует наличие у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего возможности в любой момент отказаться от упрощен- ной формы дознания (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ) [14, с. 229]. Полагаем, что существование подобных ограничений, скрытых в требованиях процессуальной формы, мешает формированию законного и обоснованного государственного обвинения.
Дискуссионным является и внедрение в российский уголовный процесс особого порядка принятия судебного решения при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор, действуя от имени государства, фактически берет на себя обязательство гарантировать обвиняемому применение в отношении него конкретных норм уголовного закона, что не согласуется ни с принципами осуществления правосудия, ни с требованиями оценки доказательств судом [15, с. 152-153; 16, с. 152]. Подобная двойственность процессуальных полномочий стороны обвинения не свойственна российскому уголовному процессу.
Некоторые ученые выражают настороженность по отношению к внедряемым упрощенным процедурам. Отмечается, что данные процедуры исключают постановление оправдательного приговора, сохраняется риск осуждения невиновного. Исследования практики показывают, что наказание, назначенное в особом порядке, либо идентично наказанию, назначенному в общем порядке, либо отличия незначительны, а в некоторых случаях даже его превышают [17, с. 199-200].
Подобная статистика говорит о несоответствии требований законодательства реалиям правоприменительной практики. Глубинные причины несоответствия назначения указанных институтов характеру их реализации кроются, по нашему мнению, в некоторой «искусственности» их внедрения в российский уголовный процесс.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 1. Существенную роль в механизме формирования государственного обвинения играют факторы психологического характера, оказывающие влияние на фактический характер деятельности правоприменителя; 2. Реформирование уголовнопроцессуального законодательства в постсоветский период значительно изменило характер и соотношение процессуальных функций участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Наблюдается усиление влияния на формирование государственного обвинения административноуправленческого фактора; 3. Внедрение в отечественный уголовный процесс упрощенных процедур способствует смешению процессуальных функций и оказывает значительное влияние на функционирование механизма формирования государственного обвинения.

Список литературы Механизм формирования и поддержания государственного обвинения: субъекты и содержание правоотношений
- Федеральный закон № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Российская газета. 2007. 8 июня. № 122.
- Концепция судебной реформы в Российской Федерации/Под ред. Б.А. Золотухина. М., 2001.
- Лебедев Н.Ю. Функционально положительные стороны конфликтов, возникающих при производстве по уголовному делу. Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 47. -Томск: Изд-во Том. ун-та. 2010.
- Капитонов А.Е. Основа уголовно-процессуального статуса следователя -процессуальная самостоятельность в уголовном процессе.Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 55. -Томск: Изд-во Том. ун-та. 2012.
- EDN: OEBUQL
- Шейфер С.А. Прокурорская и следственная власть: сущность и проблемы взаимоотношения. Уголовное судопроизводство: теория и практика/Под ред. Н.А. Колоколова. -М.: Изд-во Юрайт. 2011.