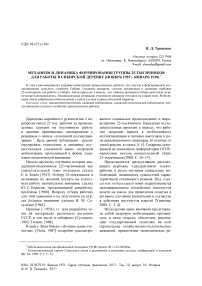Механизм и динамика формирования группы 25-тысячников для работы в сибирской деревне (ноябрь 1929 - январь 1930)
Автор: Троценко Надежда Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается кадровая мобилизация промышленных рабочих для участия в форсированной коллективизации сельского хозяйства Сибири. Основное внимание уделено механизмам и динамике вербовки 25-тысячников для работы в Сибири. Автор приходит к выводу, что главным критерием отбора выступала политическая благонадежность. Индивидуальные мотивации участников кампании отходили на второй план. Мобилизация имела добровольно-обязательный, а в ряде случаев и принудительный характер.
Двадцатипятитысячники, кадровая мобилизация, социально-политическая мобилизация, коллективизация сельского хозяйства, промышленные рабочие
Короткий адрес: https://sciup.org/14737388
IDR: 14737388 | УДК: 94
Текст научной статьи Механизм и динамика формирования группы 25-тысячников для работы в сибирской деревне (ноябрь 1929 - январь 1930)
Директива партийного руководства о переброске около 25 тыс. рабочих из промышленных центров на постоянную работу в деревню принималась одновременно с решением о начале «сплошной коллективизации» 1. Цель данной публикации – реконструировать технологии и динамику осуществления указанной выше кадровой мобилизации, проходившей в форме социально-политической кампании.
Начало научному изучению истории двадцатипятитысячников (25-тысячников) как самостоятельной темы положила статья Е. Б. Зомбе [1947]. Отбору 25-тысячников и мотивации их желания поехать на колхозную работу значительное внимание уделил Ю. С. Борисов, продолживший разработку проблемы [1960]. Вопросу отбора рабочих для этой кампании и их подготовки на курсах большое внимание уделила В. М. Се-лунская [1964].
Начиная с 1950-х гг. шла разработка темы на материалах различных регионов СССР, в том числе и сибирских [Сусликов, 1962; Тюшев, 1968].
В книге Линн Виолы «Лучшие сыны отечества» [Viola, 1987] подробно рассматри- ваются социальное происхождение и мировоззрение 25-тысячников. Канадская исследовательница приходит к выводу, что рабочие искренне верили в необходимость коллективизации и активно выступали в роли революционного авангарда. В отличие от такой версии, в статье А. Н. Сахарова, основанной на донесениях информаторов ОГПУ, нарисован весьма неприглядный образ 25-тысячников [2008. С. 56–57].
Представляется продуктивным рассматривать вербовку «двадцатипяти тысяч» рабочих в русле изучения социальных мобилизаций, являвшихся сущностной характеристикой сталинского режима. Под социальной мобилизацией нами подразумевается целенаправленное воздействие институтов власти на массы для приведения социума в активное состояние (вовлечение и соучастие в действиях институтов власти) [Ушакова, 2009. С. 3–4].
Исследуемая нами кампания представляла собой кадровую мобилизацию, призванную, в свою очередь, обеспечить реализацию государственной политики на селе (проведение хозяйственно-политических кампаний, привлечение экономических ре-
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00506а).
сурсов и т. п.). Решение кадровых проблем экстраординарными, мобилизационными методами было характерно для советского государства на протяжении всего периода существования (продотряды времен военного коммунизма, выдвиженчество, рабфаки, «тридцатитысячники» и т. п.), однако особое разнообразие и размах это явление получило в конце 1920-х–1930-е гг. Мобилизация промышленных рабочих в деревню была призвана решить чрезвычайную задачу обеспечения государства сельскохозяйственной продукцией. Однако в отличие от продотрядов времен гражданской войны перед 25-тысячниками ставилась и долгосрочная задача: наряду с созданием эффективного механизма производства продукции за счет организации прочных коллективных хозяйств укрепить социальную базу власти в деревне.
Кампании посылки промышленных рабочих «с достаточным организационно-политическим опытом» в деревню придавалось огромное политическое значение. Руководство мобилизацией осуществлял Центральный комитет ВКП(б), аппарат которого, составляя контрольные цифры вербовки, отбора и размещения по регионам 25-тысячников, довел число мобилизуемых до 26 380 чел. [Селунская, 1964. С. 43]. В Сибирский край по разверстке планировалось направить 1 730 рабочих из Ленинграда и около 400 с местных предприятий [Коллективизация…, 1972. С. 128]. Проведение их отбора поручили профсоюзам под непосредственным руководством партийных организаций.
Получив от партийных директивных органов полномочия, секретариат ВЦСПС на своем заседании 3 декабря 1929 г. принял постановление, в котором всем профсоюзным организациям предписывалось «в срочном порядке развернуть массовую кампанию на основе добровольчества» 2. Срок отбора и предварительной подготовки рабочих устанавливался до 1 февраля 1930 г. 25-тысячников предполагалось набирать из представителей партийного, комсомольского и профсоюзного активов, актива добровольных обществ (в первую очередь шефских), а также из проявивших себя в рабочих бригадах и т. п. Для мобилизуемых устанавливался минимальный производст- венный стаж 5 лет. В их числе должны были фигурировать до 70 % партийцев и комсомольцев и не менее 15 % женщин-активисток.
Ответственность за отбор рабочих для переброски в деревню на предприятиях возлагалась на фабзавместкомы и вышестоящие профсоюзные организации. Обучение рабочих постановили провести на 14-дневных курсах, финансировать которые обязывались профсоюзы. Материально-бытовое содержание 25-тысячников в это время поручалось Колхозцентру 3.
Профсоюзные органы обязывались проводить отбор 25-тысячников на добровольной основе, при этом посылая в деревню «лучших рабочих, достаточно развитых, с организационно-политическим опытом» 4.
К середине декабря 1929 г. как на предприятиях, так и при президиумах облотде-лов союзов, в основном сформировались отборочные комиссии. В их состав включались главным образом представители партийных, профессиональных организаций, шефских обществ, рабочие из профактива, а в ряде случаев и сами добровольцы, изъявившие желание ехать на колхозную работу. Для разъяснения задач данной кампании Ленинградский областной совет профсоюзов в конце ноября – начале декабря 1929 г. провел ряд митингов и районных собраний профсоюзного актива 5.
Непосредственный отбор рабочих для отправки в деревню проходил на заводах. Работники фабрики «Скороход» в обеденный перерыв участвовали в цеховых «митингах-летучках». Совместно с заводскими организациями рабкоры выпускали бюллетень, посвященный отбору добровольцев 6.
Добровольное участие в проводимой кампании преподносилось рабочим как классовый долг 7 . Различными средствами пропаганды обществу пытались внушить установку, что «только рабочее руководство может повести деревню по намеченному генеральной линией пути». Со страниц фабричных многотиражек звучали призывы «отправить на колхозное строительство все, что есть лучшего в рядах рабочего класса» 8. Как результат мощного пропагандистского воздействия, на отдельных предприятиях количество подавших заявления до пяти раз превышало разверстку 9. Тех добровольцев, которые не вошли в ряды 25 тысяч, отметили в качестве потенциальных участников шефских бригад.
На тех предприятиях, где фабричнозаводские комитеты провели достаточную разъяснительную работу, мобилизация рабочих проходила сравнительно успешно. Однако на ряде заводов ситуация складывалась иначе: по сведениям ВЦСПС, многие фабзавкомы не разъясняли рабочим «сущность кампании», поскольку и сами не имели представления о ее политическом значении 10 . В подобных случаях запись добровольцев превращалась в формальную процедуру. Так, в типографии им. Володарского после собрания актива записалось 8 желающих ехать в деревню. Обсуждения кандидатов проведено не было. В итоге, по сведениям «Ленинградской правды», среди добровольцев оказались те, кого «нельзя посылать в деревню» 11.
Даже на ряде крупных предприятий, таких как «Красный треугольник», где очень широко велась разъяснительная работа, отбор добровольцев встретил определенные затруднения. От завода требовалось набрать 300 чел. В первые дни поступило около 200 добровольческих заявлений, но «пыл быстро упал» 12. Из 296 подавших заявления к 18 декабря, только 158 чел., по мнению вербовщиков, оказались пригодны для работы в деревне. Чтобы решить эту проблему, фабричная газета провозгласила задачу «разжечь вспышку, разъясняя цели осуществления решения партии». В то же время в газете признавалось, что, так как не все цеха «сознательно и активно подошли к делу», отборочная комиссия «Треугольника» переходит к мобилизационным методам и начинает «разверстку по цехам» 13.
В ряде промышленных центров отмечены попытки со стороны управленцев пре- пятствовать выполнению плана вербовки в связи с дефицитом постоянных кадров рабочих 14. В Ленинграде подобные случаи не зафиксированы, и, несмотря на указанные выше отрицательные моменты, мобилизация прошла сравнительно успешно. Количество добровольцев здесь более, чем где либо, превысило разверстку: вместо 4 390 чел. готовность поехать в деревню изъявило около 9 200 (по данным на 22 декабря 1929 г. – 8 624) 15 [Материалы…, 1955. С. 425].
Из всех добровольцев заводские комиссии отсеяли 40 %, отраслевые профсоюзные комиссии – 15–20, и областная – около 10 %. В отборе также приняли участие Кол-хозцентр и региональные колхозные объединения. Последние командировали специальные бригады для вербовки рабочих 16. При их участии были отклонены кандидатуры до 7 % добровольцев.
В качестве причин для отвода кандидатур указывались: 1) недостаточность производственного стажа; 2) слабость политической подготовки; 3) недостаточная активность в общественной работе; 4) недостаточный стаж общественной работы; 5) политическая невыдержанность или недооценка коллективизации сельского хозяйства; 6) преклонный или слишком молодой возраст; 7) склонность к пьянке и прочие провинности (прогулы и т. п.); 8) невозможность отпустить с производства вследствие дефицитности профессии 17.
Вопрос, могут ли выступать в роли посланцев рабочего класса выходцы из деревни, изначально не был однозначно определен партийным руководством. Если газета «Красный треугольник» от 6 декабря сообщала, что «комплектация руководящих работников колхозов должна происходить исключительно из индустриальных рабочих, не связанных с деревней» 18, то «Ленинградская правда» от 19 января 1930 г. информировала, что «руководителями деревни» не могут стать лишь рабочие – владельцы индивидуальных хозяйств. Выходцам из деревни, которые, следовательно, допускались в ряды 25-тысячников, вменялось в обязанность отдать свое хозяйство в колхоз.
В дальнейшем и на страницах «Красного треугольника» мы находим подтверждение, что «среди посланных были знакомые с крестьянской жизнью» 19.
Отбор на разных предприятиях проходил неравномерно, встречая трудности 20. Факт того, что значительное количество источников свидетельствует о «полном одобрении» решения партии «основной массой рабочих», в том числе на ряде предприятий, где наблюдался «недостаток разъяснительной работы» 21 , требует необходимого пояснения. Безусловно, здесь действовал принцип пропаганды – предавать гласности как успехи, так и «недочеты» кампании, но с перевесом позитивной информации. Очевидно и то, что на этом этапе кампания нашла определенный отклик в рабочей среде.
Готовность рабочих к участию в форсированном преобразовании сельского хозяйства базировалась на сочетании ряда объективных и субъективных факторов, в том числе следующих: 1) тяжелое продовольственное положение городских рабочих в сочетании с повышением экстенсивности труда на производстве в конце 20-х гг.; 2) желание части рабочих вновь ощутить себя лидирующей силой в обществе и государстве; 3) восприятие коллективизации как завершающего этапа гражданской войны, который покончит с капиталистическими пережитками в стране и откроет дорогу к построению социализма; 4) надежды на улучшение собственного материального положения и социального статуса, возможный дельнейший карьерный рост.
Для беспартийных одним из стимулов добровольного вступления в ряды «25 тысяч» служила надежда на упрощенную процедуру приема в ВКП(б), членство в которой в те годы являлось обязательным условием карьерного роста. По замечанию Ш. Фицпатрик, «партия тратила массу усилий, стараясь отделить тех, кто <…> готов взять на себя всю ответственность, налагаемую руководящей должностью, от “карьеристов”, гнавшихся лишь за персональными привилегиями» [2008. С. 24]. Это высказывание справедливо по отношению не только к вступавшим в ряды ВКП(б), но и к рабочим, изъявившим добровольное желание отправиться на должности сельских руководителей. Не случайно на ленинградских заводах встречались случаи, когда в деревню стремились те, «кому чуждо социалистическое строительство» 22.
Несмотря на то, что мобилизация имела преимущественно добровольный характер (это было необходимо для реализации целей кампании) партийными и профсоюзными органами сверху, как было отмечено, давалась разверстка. Не удивительно, что в этих условиях степень добровольности отправки в деревню зачастую была весьма условной. Отдельные рабочие в дальнейшем прямо заявляли, что их послали в Сибирь насильно 23. Таким образом, мобилизация на ленинградских предприятиях фактически принимала добровольно-обязательный, а отчасти и принудительный характер.
В ряде случаев разверстка на заводах не выполнялась из-за отказа мобилизованных от поездки в деревню. Официальные мотивы отказов были, как правило, следующие: 1) болезнь (рабочего или членов его семьи), 2) незнание деревни, 3) трудности работы в деревне, 4) боязнь репрессий со стороны «кулацких элементов», 5) желание учиться, и т. д. Со стороны некоторых рабочих отмечался страх перед новой работой 24. Среди отказавшихся от поездки в деревню были в том числе члены партии 25.
В ходе проведения мобилизационной кампании на предприятиях высказывались и мнения о том, что рабочие, не имеющие связи с деревней, ничего не понимают в деревенских делах и не могут быть организаторами колхозов 26. Доходило даже до проявлений открытого недовольства политикой партии в деревне 27. Рабочие фабрики «Скороход», сохранившие еще свое крестьянское хозяйство, объясняли посылку рабочих в деревню тем, что «всех прежних работников деревни уже перебили», а теперь требуются новые, «чтобы нагнать страх на кулака и середняка и заставить их вступить в колхозы» 28.
Сомнения рабочих провоцировались и отсутствием точной информации об условиях предстоящей работы. Даже бескорыстно откликнувшихся на призыв партии резонно волновали вопросы о том, куда они едут, как быть с семьями и т. п. Не были четко определены и сроки поездки 29. Членам семейств уезжающих обещали предоставить рабочие места. Для кого-то эта и подобные льготы сыграли большую роль в решении поехать в деревню. Но к моменту отъезда 25-тысячников из Ленинграда вопрос об устройстве их родственников на «Красном треугольнике» практически не был решен, что вызывало недовольство рабочих 30.
В ходе кампании по отбору 25-тысячников, завершившейся в основном к 7 января 1930 г., удалось организовать подачу рабочими заявлений о готовности поехать в деревню в количестве, существенно превышавшем разверстку 31 [Материалы…, 1955. С. 425]. Однако отобрать среди подавших заявления тех, кто действительно подходил для решения поставленных партией задач по форсированной «перековке» деревни, оказалось непросто. Среди направленных в Сибирь ленинградцев (около 1 770 чел. [Коллективизация…, 1972. С. 131]), вопреки планам ВЦСПС, оказалось 16,5 % с производственным стажем до 5 лет (по всесоюзным данным – 13 % [Ершков, 1963]). Женщин насчитывалось всего 8 % (по всему Союзу – 7,7 %) вместо предполагавшихся 15 [Там же. С. 129]. Отбор по принципу активности в профсоюзной, шефской и партийной работе обеспечил среди 25-тысячников в Сибири лишь 68 % со стажем общественной работы. Несмотря на стремление привлечь к участию в кампании до 30 % беспартийных, они составили не более 16,5 % от мобилизованных для Сибирского края.
Вербовка рабочих «в счет 25 тысяч» проводился и на сибирских предприятиях. Документы свидетельствуют, что в отличие от Ленинграда, где, по крайней мере формально, соблюдался принцип добровольности, в Иркутском округе комплектование данного контингента проходило главным образом в порядке партийной мобилизации 32 . Отдел кадров Иркутского окружкома связывал необходимость мобилизации с тем, что «массовая работа вокруг посылки рабочих» была проведена недостаточно. В результате среди 197 человек, предварительно отобранных для работы в колхозах, оказался только 41 доброволец (10 беспартийных, 1 член ВЛКСМ и 30 членов партии). Остальные 156 рабочих – членов ВКП(б) были мобилизованы помимо их воли. Правда, по утверждению работников окружкома, часть из мобилизованных членов партии не проявляла добровольно своего желания, боясь, что не справится c ответственной задачей.
Социокультурный облик мобилизованных рабочих-25-тысячников определялся и сочетанием нескольких факторов: теми задачами, которые стремилось разрешить в деревне руководство партии при помощи данной группы рабочих, и, соответственно, требованиями, которые к ним предъявлялись; реальным составом советского промышленного пролетариата в местах его мобилизации; групповыми и индивидуальными мотивациями самих рабочих и т. д. Влияло на процесс отбора и его результаты в том числе и то, от каких рабочих относительно безболезненно могли на время отказаться предприятия. Как мы увидели, установка на вербовку рабочих по критерию обладания «достаточным организационнополитическим опытом», который мог трактоваться весьма широко и произвольно, привела к тому, что в практической реализации мобилизация могла проходить как по принципу очередной кадровой разверстки по партийной линии, так и с преобладанием действительного добровольчества. Сам же усредненный тип мобилизованного рабочего базировался на сочетании двух основных критериев, учитывавшихся при отборе – партийность и активизм (сознательность). Мотивации к будущей деятельности учитывались, но оказывались вторичны, так как подчинялись названным выше характеристикам. Сформированный в результате проведенной кампании отряд рабочих не в полной мере соответствовал возлагавшимся на него задачам, что показал опыт уже первого года работы 25-тысячников в деревне, повлекший отсев почти 40 % от всех мобилизованных 33.
о ходе отбора рабочих на постоянную колхозную работу в счет «25000» в Сибкрайком ВКП(б) (подписано зав. отдела кадров Иркутского ОК ВКП(б)): Там же. Л. 38.
MECHANISM AND DYNAMICS OF 25-THOUTHENDERS’ RECRUITMENT FOR EMPLOYMENT IN SIBERIAN COUNTRYSIDE (NOVEMBER 1929 – JANUARY 1930)