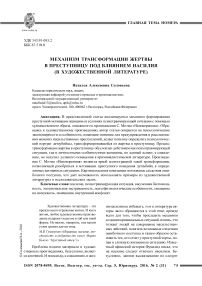Механизм трансформации жертвы в преступницу под влиянием насилия (в художественной литературе)
Автор: Соловьева Наталья Алексеевна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье анализируется механизм формирования преступной мотивации женщины в условиях психотравмирующей ситуации с помощью художественного образа, описанного в произведении С. Моэма «Непокоренная». Обращаясь к художественному произведению, автор статьи опирается на психологические закономерности и особенности, имеющие значение для предупреждения и расследования женских насильственных преступлений, делает попытку определить психологический портрет детоубийцы, трансформировавшейся из жертвы в преступницу. Процесс трансформации жертвы в преступницу обусловлен действием как психотравмирующей ситуации, так и личностными особенностями женщины, но данный аспект, к сожалению, не получил должного освещения в криминалистической литературе. Произведение С. Моэма «Непокоренная» является яркой иллюстрацией такой трансформации, позволяющей разобраться в мотивации преступного поведения детоубийц в определенных жизненных ситуациях. Картина насилия показывает возможные следствия ошибочного поступка, что дает возможность использовать примеры из художественной литературы в исследовательских целях.
Насилие, психотравмирующая ситуация, выученная беспомощность, эмоциональная застреваемость, психофизиологические особенности, смещение на псевдоцель, замещение, внутренний конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14973683
IDR: 14973683 | УДК: 343.91-055.2
Текст научной статьи Механизм трансформации жертвы в преступницу под влиянием насилия (в художественной литературе)
Художественная литература – это прежде всего отражение жизни. И как в жизни, любое художественное произведение содержит насилие в той или иной форме. Но важно, наверное, под каким углом зрения дается тема.
М.В. Гуминенко «Иерархия, насилие, жестокость и доброта (по книге Марио Кьюзо “Крестный отец”)»
Проблема подачи материала в художественных произведениях, безусловно, является ключевой. И поскольку, к сожалению, в жиз- ни насилия не избежать, то и в литературе авторы часто обращаются к этой теме, прежде всего для того, чтобы проследить механизм создания криминальных ситуаций, понять, что толкает людей на совершение насильственных действий, показать возможные следствия ошибочного поступка и таким образом остановить тех, кто стоит у преступной черты, попав в сложную жизненную ситуацию. Известный афинский историк Фукидид писал, что на насилие следует отвечать насилием. Безусловно, данное высказывание не следует воспринимать как призыв к действию, возмездию за причиненное зло. Вместе с тем необходимо признать, что, к сожалению, нередко жертва насилия в условиях психотравмирующих и конфликтных ситуаций становится субъектом преступления.
Многие отвратительные явления современного мира, такие как каннибализм, инцест, убийства детей, насилие в отношении женщин, в свою очередь порождают ответное насилие. В результате блокирования возможности проявления агрессии вовне у женщины проявляется аутоагрессия, которая может выражаться, в том числе, и в совершении убийства новорожденного ребенка [1, с. 46].
Детоубийство может быть и следствием определенных ритуалов. В Повести временных лет говорится, что амазонки не имеют мужей, но, как бессловесный скот, однажды в году, близко к весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая то время как бы неким торжеством и великим праздником. Когда же зачнут от них в чреве, – снова разбегутся из тех мест. Когда же придет время родить, и если родится мальчик, то убивают его, если же девочка, то прилежно вскормят ее и воспитают [6, c. 212].
Очевидно, что при совершении детоубийств имеют место так называемые нарушения эмоционального реагирования [3, с. 20]. У совершивших неонатицид женщин был выявлен ряд отличительных черт, заключающихся в особенностях предшествующей преступлению психотравмирующей ситуации, включающей в себя страх огласки, позора незаконной беременности, сложные семейные взаимоотношения (с будущим отцом ребенка, родственниками), материальные затруднения, увольнение с работы. Такая ситуация всегда отличалась относительной неразрешимостью, нарастающей с приближением родов, и способствовала быстрому развитию у рожениц особого эмоционального состояния, относящегося к периоду непосредственного совершения агрессивных действий, возникновению выраженной астении, связанной с фактом субъективно-неожиданных, внезапных, стремительных, происходивших без родовспоможения, в ситуации изоляции родов. При этом у женщин возникало ощущение беспомощности, растерянности.
Агрессивные действия совершались непосредственно во время родов или немедленно после рождения ребенка путем удушения, утопления, нанесения смертельных ранений колющими предметами [8, c. 32–34].
К эмоциональным нарушениям можно отнести и состояние выученной беспомощности, формирующееся у женщин под воздействием длительной или внезапно возникшей психотравмирующей ситуации и часто являющееся стержневым в мотивации их преступного поведения.
Описанный в специальной литературе феномен «выученная беспомощность» был впервые установлен Мартином Селигманом в 1964 году [7, с. 218–235]. Состояние выученной беспомощности является крайним, но неоднозначно вытекающим проявлением негативной жизненной ситуации. Поведение людей в состоянии выученной беспомощности может быть диаметрально противоположным. Деструктивное поведение (агрессивное поведение, направленное на себя и/или окружающих), смещение на псевдоцель являются основными вариантами поведения в таком состоянии и представляют интерес с криминалистической точки зрения [8, c. 130].
Выученная беспомощность опасна тем, что она обладает тенденцией к экспансии и распространяется в определенных условиях на те виды деятельности, которые не затрагивались в процессе сложной жизненной ситуации. Поэтому смещение на псевдоцель может быть обнаружено и в безмотивных насильственных преступлениях, совершенных женщинами в отношении людей, случайно оказавшихся рядом и заместивших таким образом непосредственных виновников накопившихся проблем.
Порой очень сложно отследить и передать ту гамму чувств и эмоций, которыми сопровождается любая человеческая деятельность, в том числе и преступная. Поэтому весьма конструктивным представляется обращение к художественным произведениям, где с помощью пера писателя воссоздается определенный образ личности, наиболее полно и всесторонне, доступно и красноречиво. Так, яркой иллюстрацией процесса формирования механизма преступного поведения женщины, совершающей убийство своего но- ворожденного ребенка, может служить трагедия, описанная в произведении Сомерсета Моэма «Непокоренная». Повесть, с одной стороны, пронизана состраданием к преступнице Аннет, ставшей жертвой сексуального насилия немецкого солдата Ганса, а с другой – поражает жестокостью содеянного и хладнокровием, с которым было совершено преступление. Следя за развитием событий, описанных на страницах этого произведения, трудно оставаться равнодушным. Талант автора, знание психологических особенностей человеческой натуры позволили С. Моэму воссоздать психологический портрет детоубийцы, который может быть использован для решения криминалистических задач. Возможно, такая точность и глубина объясняется отчасти и тем, что автор имел юридическое образование и даже какое-то время занимался адвокатской практикой.
В произведении достаточно подробно показан процесс трансформации позиции жертвы в позицию преступницы. Известно, что формирование личности агрессивной женщины-преступницы представляет собой сложный, протяженный во времени процесс, реализующийся в рамках криминологической ситуации, возникновение которой определяется моментом появления у личности особого качества – криминальной агрессивности [2, c. 18]. И таким моментом появления криминальной агрессивности, отправной точкой в рассматриваемом произведении является изнасилование молодой француженки немецким солдатом.
После того страшного вечера Аннет несколько дней пролежала в постели в бреду, с высокой температурой. Родители боялись за ее рассудок. Потрясение оказалось для нее слишком тяжким. Прошел месяц, затем второй, а на третий Аннет поняла, что забеременела. Но она не могла принять этого ребенка, поскольку в Германии, в плену, умирал с голоду ее любимый человек. В лицо своему насильнику, впоследствии раскаявшемуся в своем поступке и полюбившему девушку, она бросила:
«Сколько раз мне повторять, что я тебя ненавижу? Ты ждешь, чтоб я тебя простила? Никогда – слышишь? Ты готов искупить вину? Ты глуп. – Она откинула голову: в глазах ее горела нестерпимая тоска. – Я опозорена...» [5, с. 386–414].
Оскорбленное самолюбие, пережитая глубокая обида, злоба «застревают» в памяти девушки, и аффективная реакция, возникшая в момент изнасилования, фиксируется на длительное время, оказывая существенное влияние на ее мысли и поведение, в последующем приведшие ее к убийству своего новорожденного ребенка.
Основной мотив преступления кроется в словах Аннет о жажде мести: «Я его ненавижу. Мне ненавистно его тщеславие, его самонадеянность. Я готова убить его. Но мне и смерти его мало. Я хотела бы причинить ему такие муки, какие он причинил мне. Мне кажется, я умру спокойно, если только найду способ ранить его так же больно, как он меня» [5, с. 386–414].
И она нашла такой способ – убийство ребенка. Женщина, убивающая своего новорожденного ребенка, в подобной ситуации направляет всю разрушительную силу, накопившуюся под воздействием психотравмирующих факторов, не на причинителя вреда (в данном случае немецкого солдата Ганса, изнасиловавшего ее), а на более слабого и беспомощного (новорожденного ребенка). Происходит смещение акцента на псевдоцель, в результате чего актуализируется другая деятельность, в частности, преступная, дающая Аннет ощущение достижения результата вместо преодоления трудностей в отношениях.
Аннет была недопустима даже мысль о том, чтобы родить ребенка от немецкого солдата. После признания Ганса, что он хочет ребенка, что он горд и счастлив от этой мысли, что ребенок задел его душу, «Аннет внимательно посмотрела на него, и глаза ее странно блеснули. Казалось, она торжествует. Она коротко рассмеялась».
«Она смотрела на него в упор холодным, жестким взглядом. Выражение лица у нее было напряженное, суровое. Страшная мысль возникала и складывалась у нее в мозгу» [5, с. 386–414].
Таким образом, найдя «слабое место» своего обидчика, у Аннет возник умысел на то, чтобы избавиться от ребенка и подобным изощренным способом отомстить Гансу за причиненную ей боль. После родов девушка вышла из дома, пошла к ручью, опустила ребенка туда и держала под водой, пока он не умер…
«Ганс дико вскрикнул, узнав об этом, – это был крик смертельно раненного зверя. Он закрыл лицо руками и, шатаясь как пьяный, кинулся вон из дома. Аннет рухнула в кресло и, опустив голову на сжатые кулаки, страстно, неистово зарыдала» [5, с. 386–414].
Не покоренная немецким солдатом, не покоренная судьбой, Аннет принесла в жертву своей гордыни, своей мести, своего оскорбленного самолюбия, своей ненависти жизнь беззащитного, беспомощного ребенка. Последние строки повести заставляют плакать и слабого, и сильного духом, поскольку цена этого непокорства слишком велика и несоизмерима с человеческими страстями. Но вместе с тем нельзя не признать, что описанный в произведении механизм формирования у женщины преступного умысла на убийство своего новорожденного ребенка наглядно позволяет составить психологический портрет детоубийцы в условиях психотравмирующей ситуации и его нельзя недооценивать в следственной практике [10, c. 52–58].
Формирование агрессивной мотивации происходило под воздействием психотравмирующей ситуации, выразившейся в совокупности ряда обстоятельств: изнасилования матери новорожденного ребенка, немецкой оккупации, воспринятой Аннет как личная трагедия, унижения для всего французского народа, гибели любимого человека.
В целом механизм формирования преступного умысла Аннет можно охарактеризовать как механизм трансформации позиции жертвы в позицию преступницы под влиянием выученной беспомощности.
Описываемое в художественной литературе насилие призвано не только научить человека поступать так или иначе, показав возможные следствия преступного поступка, но и позволяет использовать примеры из художественной литературы в исследовательских целях.
Предпринятая в настоящем исследовании попытка обращения к художественному произведению является перспективным направлением в поиске путей предупреждения и расследования женских насильственных преступлений, возможностью комплексного изучения причин и условий, способствующих их совершению.
Список литературы Механизм трансформации жертвы в преступницу под влиянием насилия (в художественной литературе)
- Антонян, Ю. М. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве/Ю. М. Антонян, Е. Г. Самовичев. -М.: Закон и право, 2003. -174 с.
- Антонян, Ю. М. Об истоках формирования личности преступника/Ю. М. Антонян//Личность преступника и вопросы исправления и перевоспитания осужденных: сб. науч. тр. НИИ МВД СССР. -М.: , 1990. -С. 16-32.
- Бакин, А. А. Когнитивное звено в преступном поведении лиц, склонных к криминальному насилию/А. А. Бакин//Российский следователь. -2009. -№ 14. -С. 18-20.
- Зелигман, М. Как научиться оптимизму/М. Зелигман. -М.: Вече, 1997. -192 с.
- Моэм, С. У. Рассказы/С. У. Моэм. -М.: Книжная палата, 2001. -1199 с.
- Повесть временных лет. В 2 ч. Ч. 1. Текст и перевод/подгот. текста Д. С. Лихачева. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -406 с.
- Ромек, В. Г. Психологическое консультирование: Проблемы, методы, техники. -Ростов н/Д: ЮРГИ, 2000. -287 с.
- Русина, В. В. Криминологическая и судебно-психиатрическая характеристика женщин, совершивших убийство новорожденного (неонатицид)/В. В. Русина//Российский следователь. -2012. -№ 7. -С. 32-34.
- Соловьева, Н. А. Выученная беспомощность женщин в структуре криминалистической характеристики насильственных преступлений/Н. А. Соловьева//Вестник Академии МВД России. -2011. -№ 2 (17). -С. 124-132.
- Соловьева, Н. А. Психологический портрет женщины-детоубийцы в произведении С. Моэма «Непокоренная»/Н. А. Соловьева//Пролог. -2013. -№ 4. -С. 52-58.