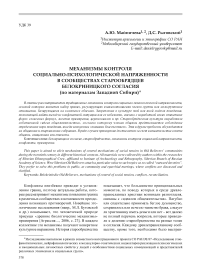Механизмы контроля социально-психологической напряженности в сообществах старообрядцев Белокриницкого согласия (по материалам Западной Сибири)
Автор: Майничева А.Ю., Рыговский Д.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XX, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются традиционные механизмы контроля социально-психологической напряженности, основой которых является набор правил, регулирующих взаимоотношения членов группы или межгрупповые отношения, базирующиеся на комплексе обычаев. Закрепление в культуре той или иной модели поведения, позволяющей найти выход из конфликтной ситуации или ее избежать, связано с выработкой неких этикетных форм: словесных формул, жестов примирения, церемониалов и пр. Старообрядческая культура выработала собственный «идеал общежительства», согласно которому членам общины предписывается соблюдение определенных норм поведения, иногда именуемым «внешним благочестием». Эти и другие проблемы обсуждаются на общинных и епархиальных собраниях. В ряде случаев примирение достигается за счет вмешательства совета общины, священника или епископа.
Белокриницкое согласие, старообрядчество, механизмы контроля социальной напряженности, конфликты, примирение
Короткий адрес: https://sciup.org/14522150
IDR: 14522150 | УДК: 39
Текст научной статьи Механизмы контроля социально-психологической напряженности в сообществах старообрядцев Белокриницкого согласия (по материалам Западной Сибири)
Конфликты неизбежно приводят к установлению границ, поэтому актуальны работы, которые рассматривают механизмы появления границ в различных сообществах и возможности преодоления возникших противоречий. Новейшие этологические исследования (напр., М.Л. Бутовской и др.) показывают, что человеческой природе присущи «древние биологические механизмы» примирения [Агрессия…, 2006, с. 27]. В каждом коллективе эти механизмы получают конкретное культурное выражение. История старообрядчества показывает, что большинство принципиальных моментов, по поводу которых в среде древле-православных христиан возникали разногласия, связаны с «идеалом общежительства». Пагубно или спасительно принимать беглое духовенство, сохранилось или исчезло таинство брака, следует ли христианину иметь деньги или нет – вот далеко не полный перечень вопросов, которые приводили к делению старообрядчества на разные толки и согласия. Каждому древлеправославному сообществу, кроме того, необходимо было выстраи- вать взаимоотношения с иноконфессиональным окружением, что связано с дискуссией по поводу норм «внешнего благочестия» (см.: [Островский, 2011, с. 24]). В нашей статье будет показано на примере белокриницких общин Западной Сибири, как на протяжении XX в. в различных контекстах реализовывались механизмы контроля социально-психологической напряженности, присущие старообрядческим сообществам. Работа основана на полевых исследованиях авторов 2011–2014 гг. (Сибирский этнографический отряд, рук. д-р ист. наук А.Ю. Майничева), материалах старообрядческих журналов «Церковь» [Красноярский поселок…, 1914; Поселок Красноярский…, 1914] и «Сибирский старообрядец» [Деловой визит…, 2003; Евгений, 2002; Письма читателей…, 2003], а также фондов Государственного архива Алтайского края (ГААК).
Каждой культуре присущи модели взаимодействия, которые позволяют найти выход из конфликтной ситуации или ее избежать, что связано с выработкой определенных речевых формул, правил этикета и норм поведения. Как отмечает К. Лоренц, общественное поведение людей проникнуто культурной ритуализацией настолько сильно, что неритуализованные действия низведены в разряд запретных: в повседневной жизни назначение манер состоит в торможении агрессии и создании социального союза [2001, с. 107].
Как показали полевые исследования, подобные механизмы общественного поведения присущи старообрядцам. Например, в межличностном общении используются формулы, призванные предупредить потенциальное развитие конфликта. Обычное завершение диалога двух староверов – это фраза: «Прости меня Христа ради», на которую собеседник должен ответить: «Бог простит, и ты меня прости» (ПМА). Тем не менее, в старообрядческих сообществах случаются внутренние конфликты, связанные с изменениями в устройстве общины или нарушениями норм «внешнего благочестия». Обсуждение их было характерно для белокриницких общин 1920-х гг., что хорошо прослеживается по материалам делопроизводства Крестовоздвиженской общины г. Барнаула. На общих собраниях барнаульские староверы активно поднимали темы борьбы с табакокурением, алкоголизмом и брадобритием, а также взаимодействие с инаковерующими. Эти же проблемы обсуждались на епархиальных съездах, где были представлены в виде вопросов к собравшимся. Съезд формулировал ответы, подкрепленные ссылкой на Священное Писание и Святоотеческую литературу. В решениях Освященного Собора белокриницкой иерархии было указано, как следует поступать с нарушителями тех или иных норм (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 22. Л. 22–22 об., 24, 57 об., 138 об.–139 об.). В дальнейшем сибирские общины могли ориентироваться на решения епархиальных съездов. Барнаульские староверы на своих собраниях обсуждали те же проблемы, но в ином ключе. Они либо зачитывали доклады против перечисленных выше «пороков», либо заслушивали отчеты о проделанных мероприятиях по их искоренению или же по проведенным беседам с представителями иных конфессий (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 12. Л. 8 об., 14; Д. 16. Л. 5 об.).
В некоторых сибирских белокриницких общинах неоднократно происходили разногласия по поводу организации духовного пения в храмах. В конце XIX – начале XX в. не раз выносился на Освященные Соборы и горячо обсуждался в старообрядческих изданиях вопрос о допустимости пения женщин на клиросах. Женское пение было широко распространено в русской православной церкви, поэтому многие старообрядцы, охраняя древнюю традицию сугубо мужского пения, не могли допустить его у себя. Сторонники женского пения обращали внимание на его эстетическую сторону, на факты, подтверждающие участие женщин в богослужебном пении древней христианской Церкви [Дынникова, 2009, с. 84]. В 1909 г., когда данный вопрос еще не был окончательно решен, в Новониколаевскую общину приезжает из Богородска-Московского учительница пения, А.С. Архипова [Олех, 1995, с. 181]. Группа прихожан выступила против того, чтобы она обучала детей прихода пению. Местный священник о. Пётр вынужден был обратиться за помощью к знаменитому старообрядческому полемисту Ф.Е. Мельникову [Старухин, 2008, с. 108]. Он сообщает, что инициаторы конфликта имели свое «умение и знание», «свои напевы и роспевы, свои выговоры и прикрасы» [Там же]. В итоге победила тенденция позволять женщинам петь на клиросах, поэтому предмет спора в Новониколаевской общине исчез сам собой.
Еще один конфликт по поводу организации богослужебного пения разгорелся в барнаульской общине в 1929 г. Здесь были проблемы с распределением обязанностей псаломщиков. Так, нанятого общиной заведовать правым клиросом псаломщика В.А. Филатова супруги Волковы якобы заставляли переходить на левый клирос, который в действительности был поручен им. Конфликт разбирался на общем собрании, но потребовал вмешательства епископа (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 8 об., 53–53 об.). Произошло все это не случайно. Взаимоотношения В.А. Филатова с общиной были далеко не гладкими. В частности, Совет общины просил его «не впадать в порок брадобрития» (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 11 об.). Видимо, это несоблюдение нормы «внешнего благочестия» было основной причиной негативного отношения к В.А. Филатову со стороны общины, поскольку барнаульские староверы задавали своему епископу в письме вопрос: «…где найти достойного человека <…>, который был бы не пьяница, ни табашник, ни брадобрийца и чтобы знал пение и устав церковный» (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 8 об.). Хотя епископ постановил В.А. Филатову заведовать правым клиросом, а супругам Волковым – левым, он отметил в своем ответе следующее: «…если которые не подчиняются порядку равномерности на клиросах, то я благославляю удалять тех с клиросов в особенности бритых, что бы они не превозносили <неразб.> как явные грешники» (ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 53 об.).
Значение богослужебного пения в культуре староверов очень велико. К певцам, участвующим в богослужении, по сей день предъявляются повышенные требования. В 2002–2003 гг. разгорелась еще одна дискуссия, нашедшая отражение в журнале «Сибирский старообрядец». Судя по всему, конфликт разрешил присутствовавший в г. Новосибирске митрополит [Деловой визит…, 2003, с. 4; Евгений, 2002, с. 6; Письма…, 2003, с. 6].
Таким образом, одним из механизмов контроля социально-психологической напряженности в сибирских белокриницких общинах является проведение собраний и епархиальных съездов, на которых обсуждаются значимые для всего коллектива вопросы соблюдения норм «внешнего благочестия» и совместно формулируются ответы на них. Кроме того, духовенство выступает в роли арбитра. На протяжении XX в. указан- ные механизмы позволяли белокриницким общинам сохранять целостность и преемственность традиций.
Список литературы Механизмы контроля социально-психологической напряженности в сообществах старообрядцев Белокриницкого согласия (по материалам Западной Сибири)
- Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека. -М.: Научный мир, 2006. -276 с.
- Деловой визит//Сибирский старообрядец. -2003. -№ 13 (34). -С. 4.
- Дынникова И.В. Морозовский хор в контексте старообрядческой культуры начала 20 века. -М.: Индрик, 2009. -440 с.
- Евгений. О церковном пении//Сибирский старообрядец. -2002. -№ 11 (32). -С. 6.
- Красноярский поселок Томской губернии//Церковь. -1914. -№ 9. -С. 220.
- Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). -СПб.: Амфора, 2001. -349 с.
- Олех Г.Л. Из жизни Новониколаевской старообрядческой общины 1907-1911 гг.: по материалам личного архива председателя Совета общины купца К.А. Полякова//Страницы истории Новосибирской области: люди, события, культура. -М., 1995. -С. 179-182.
- Островский А.Б. Старообрядцы и православные в русском сельском социуме. Вторая половина XIX-XX век: формы общения; Ритуальная специфика: этнографические очерки. -СПб.: Нестор-История, 2011. -277 с.
- Письма читателей//Сибирский старообрядец. -2003. -№ 13 (34). -С. 6.
- Поселок Красноярский Барнаульского уезда Томской губернии//Церковь. -1914. -№ 27. -С. 654.
- Старухин Н.А. К проблеме формирования региональных старообрядческих центров: история новониколаевской белокриницкой общины в переписке старообрядческих деятелей//Актуальные вопросы истории Сибири 18-21 вв.: тематич. сб. науч. тр. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. -Вып. 3. -С. 103-109.