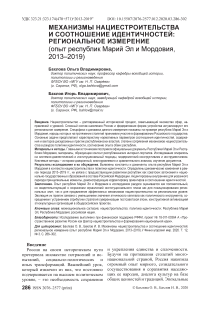Механизмы нациестроительства и соотношение идентичностей: региональное измерение (опыт Республик Марий Эл и Мордовия, 2013-2019)
Автор: Бахлова Ольга Владимировна, Бахлов Игорь Владимирович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Нациестроительство - долговременный исторический процесс, охватывающий множество сфер, направлений и уровней. Сложный состав населения России и федеративная форма устройства актуализируют его региональное измерение. Специфика и динамика данного измерения показаны на примере республик Марий Эл и Мордовия, народы которых на протяжении столетий принимали участие в формировании Российского государства. Основные задачи предполагают характеристику нормативных параметров соотношения идентичностей, содержания и векторов дискурсивных практик республиканских властей, степени сопряжения механизмов нациестроительства в ракурсе политики идентичности, соотнесение опыта обеих республик. Материалы и методы. Главными источниками послужили официальные документы Республики Марий Эл и Республики Мордовия, материалы, образующие контент республиканских интернет-порталов. Исследование опиралось на системно-диалектический и институциональный подходы, модернистский конструктивизм и инструментализм. Ключевые методы - историко-диахронный, многоуровневого и сравнительного анализа, изучения документов. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены константы и доминанты опыта республик Марий Эл и Мордовия в контексте нациестроительства и политики идентичности. Определены динамические изменения в рамках периода 2013-2019 гг., их увязка с предшествующим развитием республик как советских автономий и национально-государственных образований в составе Российской Федерации. Акцентированы внутренние для указанного периода принципиальные моменты, демонстрирующие корректировку ориентиров в соотношении идентичностей. Заключение. Опыт республик Марий Эл и Мордовия в исследуемом ракурсе оценивается как положительный, но свидетельствующий о сохранении ограничений институционального плана как для позиционирования региональных элит, так и для продвижения эффективных механизмов нациестроительства на региональном уровне. Эволюция их практик связана с уменьшением значения этнического капитала как политического инструмента, сокращением / устранением атрибутики стратегий суверенизации постсоветской эпохи, конструктивной активизацией этнокультурных организаций в общероссийских проектах.
Межнациональное согласие, нациестроительство, политика идентичности, республика марий эл, республика мордовия, российская нация
Короткий адрес: https://sciup.org/147217984
IDR: 147217984 | УДК: 323.21:323.174(470+571)“2013-2019” | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.03.286-302
Текст научной статьи Механизмы нациестроительства и соотношение идентичностей: региональное измерение (опыт Республик Марий Эл и Мордовия, 2013-2019)
Россия на своем историческом пути претерпела множество потрясений и испытаний, социально-политических и иных трансформаций. Важнейший урок, который извлечен из них, что постоянно подчеркивается на высшем политическом уровне, – это необходимость сохранения и укрепления единства и сплоченности. Будучи на протяжении столетий многонациональной страной, Россия накопила огромный опыт мирного, созидательного сосуществования и соразвития населяющих ее народов, диалога культур на базе общих ценностей и традиций. Эпохальные события не раз подтверждали, что консолидация является залогом знаменательных достижений и свершений, а дезинтеграция ведет к деградации и даже краху государства, институтов и устоев в разных сферах жизни. Неслучайно из года в год, и особенно в год празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в нашей стране вспоминают о подвиге всего советского народа, поднявшегося на борьбу со страшным врагом и продемонстрировавшего непревзойденные силу духа, героизм и мужество. Напротив, распад Российской империи и Советского Союза побуждает не забывать о кульминационных негативных проявлениях разобщенности, обусловленных комплексом причин и факторов, в том числе этнополитического плана, требует их всестороннего осмысления.
Текущее состояние мира остается весьма неоднозначным и сопровождается разнообразными вызовами и угрозами. Международные кризисы, региональные и локальные конфликты, «цветные революции», эскалация международного терроризма и экстремизма, пандемии сотрясают государства и регионы, порождая постоянные попытки найти ответы на актуальные вопросы и облечь их в некие теоретико-концептуальные конструкции – уже апробированные, новые либо прежние, но радикально видоизмененные. Это применимо и к многоплановым интерпретациям концепта «нациестроительство» [5]. Акцентируем несколько принципиальных моментов. Во-первых, преобразования во внешней среде могут серьезно влиять на ход и результаты нациестроительства, однако внешнее (международное) вмешательство не является его механизмом; безусловный приоритет должен отдаваться внутренним движущим силам и мотивам. Во-вторых, недопустима универсализация одной модели либо одного подхода; вместе с тем необходимы обобщение и систематизация опыта в историко-политическом контексте на разных этапах эволюции государства и общества.
Россия является сложным по территориальному устройству государством, федерацией с самым большим в мире субъект- ным составом с выраженной асимметрией. Субъекты Федерации – это и национально-государственные (республики), и национально-территориальные (автономная область, автономные округа), и территориальные (края, области, города федерального значения) образования. В ближайшем будущем, что следует из содержания конституционной реформы, предусматривается создание федеральных территорий, статус которых в пространстве Федерации пока неясен. Одновременно все субъекты Российской Федерации (РФ) можно рассматривать как регионы, притом включенные в макрорегионы (федеральные округа и экономические районы). Такая сложно-сочиненность пространственной композиции Российского государства в сочетании с неоднородностью регионов и страны в целом по совокупности параметров обусловливает насыщенность повестки нациестроительства и политики идентичности на разных уровнях, предполагая совмещение общегосударственных и местных (территориальных, этнических и др.) интересов и трендов.
Степень сопряжения данных интересов и трендов в разные периоды далеко не одинакова. В недавней истории она была минимальной, когда в постсоветской России наблюдалась демонстрация «суверенности» ряда регионов, посягавших на функции и полномочия Федерации. На современном этапе в официальных документах РФ и дискурсе российской власти фиксируется приверженность идее российской нации; при этом превальвация общероссийской гражданской идентичности не означает подавления этнокультурной и территориальной идентичностей, что справедливо и в отношении российских регионов. Их множественность и разнообразие увеличивают вариативность процесса на-циестроительства и его регионального измерения. Безусловно, нациестроительство осуществляется в масштабах страны, но региональная специфика сказывается на нем и привносит дополнительные оттенки в понимание содержания национального самосознания, национальной идеи и пр. Истоки этого находятся в историческом прошлом, в первую очередь совет-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ском, поскольку специфика построения РФ по преимуществу детерминирована наследием советской теории и практики федерализма. Однако не стоит забывать и о более далеких временах, когда зарождались и крепли многослойные узы дружбы и культурно-духовного родства народов, составивших многонациональный народ Российской Федерации. В данном ракурсе большой интерес представляет изучение опыта регионов, столетиями находящихся в орбите притяжения Русского/Российско-го государства, каковыми по праву можно считать и субъекты РФ с финно-угорским населением.
Обратимся к опыту двух республик – Республики Мордовия (РМ) и Республики Марий Эл (РМЭ), – показательному по нескольким основаниям. РМ и РМЭ характеризуются существенным сходством по ряду позиций: 1) политико-правовой статус в пространстве Федерации – он одинаков; 2) этническая структура населения: титульные этносы сопоставимы в процентном отношении к другим группам населения республик: 40 % в РМ и почти 44 % в РМЭ1; 3) пространственное расположение: республики не являются непосредственными соседями, но территориально по российским меркам очень близки, обе политически инкорпорированы в один макрорегион – Приволжский федеральный округ (ПФО), а экономически – в Волго-Вятский район (согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года – в Волго-Камский); в более общем смысле они составляют неотъемлемую часть Поволжья – исторической зоны плотных межцивилизационных и межкультурных контактов; 4) длительность совместной с Русским государством / Россией, русским и другими народами России истории (более чем 1000-летней у мордвы и более чем 500-летней у марийцев), национально-государственного и национальнокультурного строительства, уходящего корнями в 1920–1930-е гг., когда создавались марийская и мордовская автономии в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Имеются и другие сходные черты, например своего рода биполярность (этнически-лингвисти-ческая) у мордвы и марийцев.
Вместе с тем в историко-политическом ракурсе есть серьезные расхождения в позиционировании республик в позднесоветский и постсоветский периоды – в их атрибуции стратегии суверенизации. Так, 22 октября 1990 г. Верховный Совет Марийской АССР провозгласил Декларацию о государственном суверенитете республики, где говорилось о неотъемлемом праве марийской нации на самоопределение, о национальной государственности и государственном суверенитете2. Заметим, что эта декларация, несмотря на протест прокурора республики, не была отменена даже в 2000-е гг., когда начался период «рецентрализации». Госсобранием РМЭ документ был признан «историческим фактом», отвечавшим духу времени и действиям других субъектов Федерации; отменена только ст. 18, которая придавала ему статус закона3. В принятой Верховным Советом Мордовской АССР 7 декабря 1990 г. Декларации о государственно-правовом статусе республики4 предусматривалось преобразование МАССР в МССР, но без закрепления ее государственного суверенитета, хотя подобный проект был разработан и опубликован5. Институт президентства в Мордовии (декабрь 1991 г. – апрель 1993 г.) в отличие от Марий Эл (октябрь 1991 г. – июнь 2011 г.) оказался недолговечным. Примечательны также попытки Марий Эл утвердить институт республиканского гражданства [19].
Резюмируя, сформулируем цель нашего исследования – выявить специфику и динамику регионального измерения нацие-строительства в России на примере РМЭ и РМ. Из нее вытекают следующие задачи: охарактеризовать нормативные параметры соотношения идентичностей в официальных документах республик; пояснить содержание и векторы дискурсивных практик республиканских властей в сферах, признаваемых существенно важными для процесса нациестроительства; определить степень сопряжения механизмов нациестроительства в ракурсе политики идентичности; соотнести опыт обеих республик в анализируемой плоскости.
Обзор литературы
Вопросы нациестроительства включены в обширное проблемное поле, формирующееся в отечественной и зарубежной научной литературе. В теоретико-концептуальном и методологическом плане первостепенно значимы работы, посвященные осмыслению проблем на-циестроительства в многосоставных и трансформирующихся обществах, многонациональных государствах, интерпретации системообразующих понятий и категорий («национальная идентичность», «гражданская нация» и др.). Позиции их авторов выражаются бихевиористскими, функционалистскими, эссенциалист-скими, постмодернистскими, модернистско-конструктивистскими и прочими версиями [12; 29–32; 38]. Исследования нациестроительства часто демонстрируют фокусировку либо на его «демократической» модели с акцентом на улучшение совместной жизни внутри сообщества путем институциональных усовершенствований, либо на «автократической», или «авторитарной», с артикуляцией ведущей роли элит, преследующих цели поддержания своего доминирующего положения [36]. Таким образом, предполагается изучение совокупности взаимодействий, складывающихся по разным линиям: элиты – население, межэлитные, горизонтальные, без доминирования определенных акторов и т. п. Большое внимание при этом уделяется способам позиционирования различных групп и субъектов, применению ими различных методов и технологий. Среди таковых насущными признаются пропаганда преимуществ, получаемых в ходе нациестроительства [28], использование «этнического капитала» как производительного инструмента [35], концентрация внутренних усилий и возможностей политического субъекта – наличие «политической воли», проецируемой в массы [18]. Выражается мнение, что определенные стратегии управления идентичностью порождают негативные последствия в контексте аккультурации, поддерживая ассимиляцию меньшинств вместо интеграции [33]. Обращаясь к российской практике, авторы чаще всего фиксируют приверженность государствоцентричной парадигме, хотя одновременно рассуждают о перспективах гражданской нации, «России-циви-лизации» и др. [5; 37]. С. П. Поцелуев и Дж. А. Тимкук относят российский случай к государственному типу нациестрои-тельства [12, 117].
В нациестроительстве в России исследователи выделяют этнополитический и этнокультурный компоненты. Предметом многих работ выступают формирование и реализация государственной национальной политики, ее эволюция, концептуальные модели и пр. В рассматриваемом ракурсе обращает на себя внимание ее трактовка как совокупности политического проекта нациестроительства и этнополитики (управление этнокультурным развитием народов России, противодействие этническому и религиозному экстремизму, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов и т. д.) [13]. Ввиду сложности территориального устройства и обширности Российского государства акцентируются региональная специфика, практики данного уровня, часто коррелирующиеся с конструированием различных типов идентичностей. Используется понятие «строительство регионов», интерпретируемое в русле региональной политики идентичности [27]. Дополнительные нюансы в ней присутствуют в национальных регионах, где манифестируются не
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ только территориальная, но и этническая составляющая структуры идентичности и соответственно еще более актуализируется их соотнесение с общероссийской идентичностью. Специального упоминания в связи с этим заслуживают работы О. А. Богатовой [3–4], И. Г. Напалковой и А. С. Солдатовой [11; 15–16], О. Н. Чирковой [23].
В качестве отдельной группы исследований следует рассмотреть работы, ориентированные на детализацию опыта Республики Марий Эл и Республики Мордовия в интересующем нас ракурсе. Историко-культурный и историко-политический контекст прослеживается в публикациях В. В. Козина и С. Г. Ушкина [7], А. В. Мартыненко и Т. Д. Надькина [9], В. Д. Шарова [25], Н. В. Шилова [26]. В коллективной монографии под редакцией Н. М. Арсентьева предпринимается попытка обобщить различные аспекты опыта финно-угорских народов, включая марийский и мордовский [22]. Другие авторы характеризуют динамику этнополитической и этнокультурной ситуации в РМ и РМЭ, увязывая ее как с региональными, так и с общероссийскими тенденциями. Они анализируют социокультурные и этнокультурные ценности и межэтнические ориентации, выявляют особенности республиканского опыта [2; 8; 21; 24].
Большинство авторов склонны констатировать позитивные стороны такого опыта, подчеркивая отсутствие серьезной напряженности на этноконфессиональной почве и в Мордовии, и в Марий Эл, стремление к диалогу, межнациональному согласию и т. п. [14; 20; 34]. Акцентируются историческая связь народов и значение единства для укрепления национальной государственности: «…мордовский народ, много веков созидавший совместно с русским и нерусскими народами многонациональное Российское государство… отчетливо понимает, что лишь Россия – его Родина и его Отечество…» [10, 29]. Однако есть более критические оценки, соотносимые как с этническими, так и с политическими моментами [17; 25]. В частности, авторы усматривают авторитарные проявления в политическом развитии регионов, слабость и пассивность некоммерческих организаций, что препятствует усилению гражданского вектора нациестроительства, сохраняющиеся очаги и зоны по большей мере латентной конфликтности, детерминированные причинами и факторами как внутреннего, так и внешнего происхождения, в том числе нарастанием миграционных потоков. В целом отмечается достаточно высокая степень толерантности жителей РМ и РМЭ к мигрантам, но одновременно фиксируется заметная доля респондентов, проявляющих мигрантофобию [6, 659].
Подытоживая, можно говорить об устойчивом и диверсифицированном исследовательском интересе в анализируемой плоскости. Однако, несмотря на значительное количество работ, все же остаются малоизученными вопросы сопряжения регионального и общероссийского уровней данного процесса: авторы склонны преимущественно к концентрации на одном из них, притом линейно показывают те или иные векторы. Это касается и непосредственно спецификации механизмов нациестроительства, увязки с условиями и возможностями регионов, их положением в системе центрально-региональных отношений в прошлом и современности. Требуются конкретизация и аккумулирование регионального опыта, формирующегося в разветвленном пространстве коммуникаций по горизонтали и по вертикали.
Материалы и методы
В основе исследования – официальные документы Республики Марий Эл и Республики Мордовия и в целом материалы, образующие контент республиканских интернет-порталов, раскрывающие содержание дискурса представителей властных структур и деятельность ответственных республиканских ведомств. Частично использовались результаты социологических исследований (анкетных и экспертных опросов, фокус-групповых исследований), проведенных коллективом исполнителей нашего гранта [2; 15–16] и другими авторами, структурами, центрами и т. д. [6–8; 23–24 и др.], иллюстрирующие состояние и динамику ситуации в
Марий Эл и Мордовии прежде всего в области межнациональных отношений.
Исследование базируется на системно-диалектическом и институциональном подходах с опорой на «старый институционализм» – для определения нормативной динамики; «новый институционализм» – для концентрации внимания на соответствующих программах и политических решениях; исторический институционализм – в контексте влияния прошлого опыта и традиций на действия акторов. В плоскости нациестроительства учитывались в первую очередь установки модернистского конструктивизма и инструментализма, акцентирующие те или иные механизмы.
Главные методы исследования – истори-ко-диахронный, многоуровневого и сравнительного (динамического и бинарного) анализа. Выбор объектов исследования был обусловлен близкими контекстуальными особенностями республик. Данные методы позволили показать общие и отличительные черты в репрезентации соотношения идентичностей и продвижении механизмов нациестроительства в указанных временных рамках, соотнести опыт Марий Эл и Мордовии с учетом совокупности политико-правовых и социокультурных параметров, определить степень корреляции республиканского опыта и дискурса региональных властей с федеральными трендами. Привлекались также традиционный анализ документов и контекстный анализ официального дискурса, ориентированные на выявление и обобщение главных ориентиров в плоскости на-циестроительства.
Хронологические рамки исследования распространяются на 2013–2019 гг. Они сопрягаются с ключевыми в рассматриваемом ракурсе инициативами федерального центра и последующими решениями на этой основе региональных органов власти. Заметим, что на данные временные рамки пришлись важные для изучаемых регионов политические события, скорректировавшие стратегии и тактики поведения их элит и сместившие акценты в интерпретации инструментария нациестроительства через призму соотношения региональной/этни-ческой/общероссийской идентичности.
Результаты исследования и их обсуждение
Прежде чем анализировать непосредственно опыт Республики Марий Эл и Республики Мордовия, артикулируем некоторые положения, принципиальные для понимания процесса нациестроительства и политики идентичности. Они были выявлены в ходе предшествующих исследований [2].
Во-первых, нациестроительство охватывает различные сферы, среди которых наиболее значимыми признаются национальная, образовательная, культурная политика. С учетом важности этнокультурного компонента в политике идентичности для национальных регионов в поле нашего зрения попали прежде всего национальная и культурная политика и политические дискурсы в данной области.
Во-вторых, к ключевым механизмам продвижения нациестроительства в российских условиях можно отнести оформление национальной идеи; формирование государственной политики пространственного развития; укрепление и совершенствование символической политики и политики памяти; развитие и пропаганду русской культуры, языка, культуры народов России; укрепление нормативных основ государственной национальной политики. В региональном измерении, разумеется, нельзя вести речь об автономной национальной идее, но можно рассуждать о восприятии предлагаемых федеральными акторами ее вариантов как региональным политическим сообществом, так и населением региона в целом. Символическая политика и политика памяти небезосновательно рассматриваются в общем русле политики региональной идентичности; здесь чрезвычайную важность приобретают символы и архетипы, не противоречащие общероссийским, а органично дополняющие их и передающие суть этнокультурного наследия региона. Однако ввиду обширности и многослойности названных и других механизмов наше внимание будет сосредоточено на нормативно-институциональных рамках.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нормативная составляющая в российских регионах как субъектах Федерации задается совокупностью требований федерального и регионального законодательства. Восстановление единства политико-правового пространства Федерации в начале 2000-х гг. существенно сузило поле, свободное для маневров и комбинаций региональных властей в плоскости политики идентичности, сместив ее акценты. Опыт Марий Эл и Мордовии достаточно наглядно это подтверждает посредством как их законодательных актов, так и концептуально-стратегических документов.
Примечательны формулировки преамбул республиканских конституций. В Конституции РМЭ можно акцентировать словосочетания: « Народ Республики Марий Эл», « неотъемлемое право на самоопределение » и « историческое единство с народами России »6. В Конституции РМ – « полномочные представители многонационального народа Российской Федерации, проживающего в Республике Мордовия », « стремление к сохранению целостности Российской Федерации », « осознавая Мордовию частью Великой России »7. Разница в расстановке акцентов в соотношении политических идентичностей очевидна.
Любопытны документы, характеризующие статус определенных республиканских ведомств. Здесь наблюдается несколько иная, более противоречивая картина. Например, к задачам отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ отнесено помимо прочего осуществление мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства российской нации8; среди основных задач самого министерства - проведение единой государственной политики в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции9; одной из задач Совета по делам национальностей при министерстве названо содействие в реализации государственной национальной политики Республики Марий Эл10. В соответствующей концепции РМЭ употребляется именно это выражение, хотя в целом ее положения и республиканские программы выражают ориентацию на «укрепление общероссийской гражданской идентичности», «развитие духовного и гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)»11.
Показательна динамика формулировок программных целей в сфере этнокультурного развития. В Республиканской целевой программе на 2009–2013 годы закреплялась следующая их комбинация: цель 1 – формирование условий для удовлетворения прав личности на свободу вероисповедания, творчества и участия в культурной жизни, реализацию и развитие своей этнокультурной самобытности; цель 2 – cохранение культурного и языкового разнообразия; содействие формированию условий для изучения, культивирования и развития гражданами родной культуры и использования родного и го- сударственных языков РМЭ; цель 3 – распространение и укрепление в обществе толерантных социальных установок и стереотипов; содействие интеграционным процессам на основе исторических и культурных традиций, наследия народов России, общегосударственной гражданской идентичности и самосознания, государственного патриотизма12. В действующем ныне документе (подпрограмме 1) среди целей указаны укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному и языковому многообразию народов России, проживающих в Республике Марий Эл, а в качестве одного из приоритетов – «формирование ценностей региональной и общероссийской идентичности на основе всестороннего и гармоничного этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих в Республике Марий Эл»13.
Документы РМ отличаются большей гомогенностью и последовательностью позиции в исследуемом ракурсе. Так, Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия позиционируется как исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, осуществляющий «…функции по выработке и реализации государственной политики… в сферах… национального развития и межнациональ- ных отношений… на территории Республики Мордовия»; в характеристике его полномочий тоже заметна артикуляция общероссийского уровня идентично-сти14. Подобную направленность имеют и основные республиканские программы в сферах межнациональных отношений и культуры. Выражение «государственная национальная политика Республики Мордовия» встречается один раз15 и вряд ли может трактоваться как константа позиции республики. Отметим, что в РМ отсутствует документ, аналогичный Концепции национальной политики РМЭ.
С другой стороны, сравнение предшествующей и действующей ныне программ РМ в сфере культуры выявило некоторые динамические изменения в сути и иерархии приоритетов, близкие показанным на примере РМЭ. Реализация стратегической роли культуры понимается в том числе в увязке с единством российского общества, тогда как ранее акцент делался скорее на сохранении и развитии культурного наследия республики16.
Почти нет расхождений в константах и доминантах официальных документов РМ и дискурсивных практик Главы Республики Мордовия. Для Главы РМ характерны анализ ситуации в республике и постановка задач на перспективу в контексте общероссийских событий (воссоединения Крыма с Россией и др.), судьбы России ; в его ежегодных посланиях часто встречаются образы «великая держава Россия», «великая Родина Россия», «род-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ная Россия». Сквозной темой является тема единства – всей страны и республики. Типичен лозунг-призыв в послании 2014 г.: «Пусть наша Россия будет единой и сильной на все времена!» Яркий сюжет первого срока полномочий В. Д. Волкова в качестве Главы РМ – празднование в 2012 г. Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства, трактуемое как всероссийская демонстрация единения народов страны (послание 2013 г.).
Несмотря на манифестацию определенной превальвации в соотношении политических идентичностей, в дискурсе Главы РМ значительное место занимают вопросы собственно региональной политики идентичности, в рамках которой обсуждаются поддержка самобытной национальной культуры (в том числе самодеятельного народного творчества, «дорожной карты» по возрождению и развитию народных промыслов и ремесел), развития мордовских языков и др. (показательны послания 2018–2019 гг.)17. Принципиальных смысловых изменений в нем за прошедшее время не наблюдается; вместе с тем освещаемые Главой РМ сюжеты стали более насыщенными, развернутыми, связь с общегосударственными задачами – более четкой; ощутимее оказались также акценты на темах (патриотического) воспитания, пресечения воздействия агрессивной внешней среды, гражданской (социальной, общественной) активности. Обоснование республиканской идентичности – один из фокусов политического дискурса РМ, но можно согласиться с мнением о вторичности эт-нотерриториальной самоидентификации республиканской элиты по отношению к центр-периферийной [4, 135 ]. Заметим, что в период пребывания на посту Главы РМ Н. И. Меркушкина степень этни-зации политического дискурса республики оценивалась как довольно зримая [3].
С другой стороны, справедливо подмечается, что именно при нем были заложены основные векторы имиджирования РМ, в том числе как «региона гармоничных межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений» [11, 52 ].
Динамику представлений о соотношении идентичностей в политическом дискурсе РМЭ отразить сложнее, поскольку после ликвидации в ней института президентства послания Главы располагаются в экономической плоскости, будучи посвящены вопросам инвестиционного положения республики. Сошлемся на результаты других исследований, в которых обобщался опыт более раннего периода дискурсивных практик региональных властей и средств массовой информации. Выделим утверждение о средней степени этнизации этнополитических компонентов имиджа Республики Марий Эл и дискурса республиканской этнической политики [3, 105 ]. Анализ официальных документов ранее продемонстрировал определенные расхождения между РМЭ и РМ, но в целом высказывания действующего Главы РМЭ А. А. Евстифеева свидетельствуют об умеренной позиции в этнополитической области. В его выступлениях фиксируются конструкции «великая страна», «преданность Отчизне», «чувство сопричастности и ответственности за судьбу России и Марийского края», «единство»18. Глава РМЭ подчеркивает «сплоченность всех жителей нашей многонациональной страны», отмечая: «В переломные моменты исторического развития Российского государства Марийский край доказывал неразрывность своей судьбы, своего будущего с судьбой и будущим всей страны »19.
Декларируемые ориентиры в плоскости нациестроительства и политики идентичности воплощаются в разнообразных мероприятиях. Анализ контента интер-нет-порталов органов государственной власти РМЭ20 и РМ21 позволяет составить представление о них. Обобщая, подчеркнем многоуровневость репрезентации идентичностей, что затрагивает в том числе внешнее измерение с акцентом на защите общероссийской культурной идентичности (например, участие в Международном фестивале русских драматических театров «Соотечественники»). Преобладают мероприятия «внутреннего» измерения, развивающие темы «большой» и «малой» Родины в ракурсе гражданской, этнической и территориальной идентичностей: всероссийского, межрегионального, республиканского, районного и прочего масштаба. Это всероссийские интернет-акция «Я часть единения», художественная выставка «Россия – Родина моя», конкурс «Патриот России»; межрегиональные выставка «Большая Волга – искусство республик Поволжья», фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Душа России», детский творческий конкурс «Дружба народов – единство России»; республиканские выставка «Мой край – Мордовия моя», фестиваль (РМЭ) «Навеки с Россией»; выставочный проект «Мордва и русские – взаимовлияние культур: мордовская деревня вчера, сегодня, завтра» и т. п. Относительно временной динамики отметим определенное увеличение начиная с 2016 г. количества и диверсификацию этнокультурных мероприятий в РМЭ, коррелирующихся с трендом на утверждение общероссийской гражданской идентичности.
В исследуемой плоскости примечательно также вовлечение республик, национально-культурных общественных объединений (НКОО), более конкретно – этнокультурных некоммерческих организаций (НКО) разного уровня, национально-культурных автономий (НКА) в
HISTORICAL STUDIES осуществление общероссийских, межрегиональных и региональных инициатив и проектов. Так, Федеральная национально-культурная автономия марийцев России (ФНКА «Марийцы России») в 2020 г. получила грант Правительства РМЭ на реализацию проекта «Марийские аудиокниги» (в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»); национально-культурные некоммерческие организации РМЭ приглашены к участию в проекте «Школа медиакоммуникации для этнокультурных НКО», распространяющемся на 15 российских регионов (из финно-угорских регионов кроме РМЭ участвуют Республика Коми и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра)). ФНКА «Марийцы России» стала одним из победителей I Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений (2018 г.) (проект «Фестиваль национальной кухни “Этнокухня-2018”»), хотя среди финалистов не было ни одной организации из РМ и РМЭ (в отличие от других финно-угорских регионов – Республики Коми, Удмуртской Республики, ХМАО – Югры)22.
Позже динамика несколько улучшилась: некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов» (г. Саранск, РМ) в 2019 г. победила во II Всероссийском конкурсе (проект «Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль “Волга – река мира. Диалог культур волжских народов”»); региональная общественная культурно-просветительская организация «Дом дружбы народов Республики Мордовия» – в конкурсе 2019 г. среди некоммерческих организаций на 100 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (проект «Межрегиональный этнокультурный транзит “Территория традиций”») и др. Довольно обширный материал о достижениях РМЭ в рассматриваемом ракурсе на современном этапе содержит сайт АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»23.
Деятельность НКОО и НКО, их взаимодействие с властными структурами, между собой, общественными объединениями могут восприниматься как важный институционально-коммуникативный механизм нациестроительства, укрепляющий его гражданский вектор. С другой стороны, в теоретическом и официальном дискурсах выявляются уязвимости, препятствующие этому. Так, Глава РМ неоднократно высказывался о недостаточной интенсивности проектной деятельности некоммерческих организаций, имея в виду число победителей и объемы выигранных средств на реализацию проектов, неумении грамотно подготовить проект, обосновать его нужность . Исследования проектной деятельности НКО РМ, проведенные в рамках нашего гранта, подтверждают их слабую включенность в процесс принятия политико-управленческих решений и неактив-ность, несмотря на многочисленность. Содержание проектов дублирует позиционные линии политики идентичности региональной элиты, преобладает актуализация скреп общероссийской идентичности [16, 182, 192 ].
В целом функционирование «третьего сектора» существенно зависит от политико-институциональных условий общегосударственного и регионального уровней. Ответственность здесь, разумеется, двусторонняя, поэтому региональной власти необходимо найти или адаптировать дополнительные инструменты стимулирования подобных организаций.
Оговоримся, что для выявления институциональных форм представительства регионами своих интересов (особенно этнических) и репрезентации региональной идентичности (включая ее этнополитический аспект) остается актуальным предметное изучение НКОО, в том числе национально-культурных автономий, что выходит за рамки данного исследования. Подчеркнем только, что возможности НКА, закрепленные законодательно, позволяют им взаимодействовать с консультативными и совещательными органами при Правительстве РФ и исполнительными органами субъектов Федерации, а также органами местного самоуправле-ния24. Соответственно потенциально усиливается перспектива сбалансирования различных линий и осей в региональной политике идентичности, что, в свою очередь, способствует продвижению консолидирующих механизмов нациестро-ительства и одновременно большему учету этнокультурного компонента. Однако в анализируемый период в интересующих нас республиках действовало не такое значительное количество НКОО. В РМЭ их было всего четыре, притом только одна – «Союз марийской молодежи “У Вий”» («Молодая сила») – может рассматриваться как представляющая интересы марийцев, хотя ее деятельность вызывает серьезные нарекания25.
Подытоживая, солидаризируемся с исследовательскими оценками, акцентирующими позитивную направленность опыта обеих республик на установки межэтнического сотрудничества [7; 14; 21; 23]. Элементы этнизации, безусловно, присутствуют в их стратегиях – имиджевых и иных, но политически они не доминируют, выступая скорее привычной, понятной и принимаемой без явного сопротивления константой как для республиканских элит и населения регионов, так и для федерального центра.
Заключение
Содержание и динамику опыта Республики Марий Эл и Республики Мордовия в целом можно трактовать в положительном ключе, как подтверждение «солидарного настроя» на поддержку и продолжение определившихся векторов репрезентации региональной идентичности в контексте общероссийского процесса нациестрои-тельства. С другой стороны, выявленные константы и доминанты обусловлены не только осознанными практиками соответствующей идентификации, вытекающими в том числе из особенностей менталитета и структуры населения регионов, их исторического развития, но и в значительной степени конъюнктурными соображениями республиканских элит, осознающих ограниченность потенциала маневрирования в отношениях с федеральным центром. Ввиду этого постепенно снижается привлекательность использования инструментария этнического капитала, что находит отражение в нормативном измерении. Однако данное измерение можно понимать и как по большей мере демонстрационное, призванное убедить федеральный центр в лояльности. Семантически диахронный анализ республиканских документов свидетельствует о почти безоговорочном следовании РМЭ и РМ тренду на утверждение общероссийской идентичности.
Настораживающие моменты прослеживаются в институциональной плоскости. Важным механизмом нациестроительства в направлении завершения формирования общероссийской гражданской нации выступает гражданская активность. Ее повышение на современном этапе налицо, как и различные формы поддержки со стороны федеральных и региональных органов. Однако здесь сохраняются недоработки, упущения, которые, впрочем, типичны не только для РМЭ и РМ, но и для многих других российских регионов, и для всей страны. На региональном уровне предпочтение отдается таким механизмам, как политическая воля и политическая консолидация. В этом плане опыт РМЭ и РМ и совпадают, если судить по лейтмотиву их политического дискурса, и различаются. Примени- тельно к Мордовии можно говорить о политической преемственности, сложившейся управленческой «команде», отсутствии серьезных разрывов внутри исследуемого периода в стратегиях политического управления, брендирования территории и пр. В Марий Эл данный период более прерывист, как и в целом опыт постсоветского развития республики неоднозначен. С 2017 г. отмечается преимущественное следование РМЭ и ее элиты в фарватере общероссийского курса.
Показанная динамика продолжает логику периода начала 2000-х гг. Первоначально ее главным вектором было прежде всего устранение наиболее явных доказательств «правового нигилизма» регионов постсоветского времени. Была проведена большая работа в законодательной сфере, хотя отдельные рудименты наследия 1990-х гг. сохранились в Марий Эл. Принятие Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 2012 г., ее адаптация к изменившимся обстоятельствам, закрепление основ государственной культурной и молодежной политики, совершенствование региональной политики (государственной политики регионального развития), внедрение инструментария стратегического планирования и другие федеральные инициативы преобразовали рамочные условия для регионов. Принятые начиная с 2013–2014 гг. государственные программы РМЭ и РМ это, несомненно, отражают. В 2018–2019 гг. регионы, этнокультурные организации получили дополнительные возможности благодаря Всероссийскому конкурсу лучших практик в сфере национальных отношений, что свидетельствует об умеренной позитивной институциональной динамике в рассматриваемом ракурсе. Кроме того, важно отметить усиливающееся сопряжение решений и мероприятий в плоскости нациестрои-тельства с реализацией национальных проектов и более широко – социальных задач. Полагаем, что в этом смысле и для РМЭ, и для РМ ключевым в выстраивании политики идентичности и позиций по повестке нациестроительства, как и в предшествующий период, будет их статус дотационных, а не национальных регионов.
Поступила 21.07.2020, опубликована 26.10.2020
Список литературы Механизмы нациестроительства и соотношение идентичностей: региональное измерение (опыт Республик Марий Эл и Мордовия, 2013-2019)
- Бахлова О. В., Бахлов И. В. Государственная политика нациестроительства в России: содержание, институты и механизмы // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2019. Т. 27, № 3 (108). С. 413-435. DOI: https://doi. org/10.15507/2413-1407.107.027.201903.413-435
- Бахлов И. В., Бахлова О. В. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в финно-угорских республиках - субъектах РФ: эволюция подходов и практик (2000-2018) // Финно-угорский мир. 2019. Т. 11, № 3. С. 301324. DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.011.2019.03.301-324
- Богатова О. А. Особенности образов «финно-угорских» республик в политическом дискурсе органов государственной власти (на примере республик Марий Эл, Мордовии и Удмуртской Республики) // Известия Саратовского университета. Новая сер. Сер.: Социология. Политология. 2015. Т. 15, № 2. С. 103-107. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=23711540 (дата обращения: 21.07.2020).
- Богатова О. А. Социальное конструирование республиканской идентичности в региональных политических дискурсах // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2017. Т. 25, № 1 (98). С. 117-138. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=28923274 (дата обращения: 21.07.2020).
- Волков Ю. Г., Лубский А. В. Российская реальность в пространстве социологического дискурса: в 2 кн. Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный ун-т, 2019. Кн. 2. 384 с.
- Воронцов В. С., Мартыненко А. В., Орлова О. В., Шабаев Ю. П. Проблемы общественного восприятия миграции населением финно-угорских республик России (на материалах Марий Эл, Мордовии, Коми, Удмуртии) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13, № 4. С. 653-663. DOI: https://doi.org/10.35634/2224-9443-2019-13-4-653-663
- Козин В. В., Ушкин С. Г. Этносоциологиче-ские исследования в Республике Мордовия в 1990-2010 гг.: ретроспективный анализ // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2019. Т. 27, № 4 (109). С. 858-879. DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.109.027.201904.858-879
- Лимкина Н. А. Межнациональные отношения в Республике Мордовия // Социальная интеграция и развитие этнокуль-тур в евразийском пространстве. 2018. № 6-1. С. 55-59. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36647894 (дата обращения: 21.07.2020).
- Мартыненко А. В., Надькин Т. Д. Этнопо-литическое и конфессиональное развитие в постсоветской Республике Мордовия: достижения, проблемы и перспективы // Клио. 2014. № 6 (90). С. 89-91. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=21634709 (дата обращения: 21.07.2020).
- Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Этнические процессы у мордвы на современном этапе // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2015. № 4 (32). С. 26-30. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=29370893 (дата обращения: 21.07.2020).
- Напалкова И. Г., Курочкина К. В. Исторический и современный персоно-образ как элемент символического этнонацио-нального капитала Республики Мордовия (2014-2019 гг.) // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 1. С. 42-61. DOI: https://doi. org/10.15507/2076-2577.012.2020.01.042-061
- Поцелуев С. П., Тимкук Дж. А. Многосоставные общества между государственной и сообщественной нацией // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, № 3. С. 96-125. DOI: https://doi. org/10.31429/26190567-19-3-96-125
- Савинов Л. В. Национальная политика в современной России: концептуальная модель и ее реализация // Вестник Российской нации. 2020. № 2 (72). С. 9-17. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=42956253 (дата обращения: 21.07.2020).
- Сайранова М. В. Диалог культур в Республике Марий Эл // Инновационные технологии управления и права. 2017. № 2 (18). С. 65-72. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=35333216 (дата обращения: 21.07.2020).
- Солдатова А. С., Напалкова И. Г., Грыжан-кова М. Ю. Специфика восприятия концептуальных конструкций формирования государственно-гражданской идентичности в современном российском обществе (по материалам фокус-групп) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2019. Т. 19, № 4 (48). С. 464478. DOI: https://doi.org/10.15507/2078-9823.048.019.201904.464-478
- Солдатова А. С., Семушенкова А. С. Особенности конструирования уровней идентичности в проектной деятельности российских некоммерческих организаций // Ars Administrandi (Искусство управления). 2020. Т. 12, № 2. С. 176-202. DOI: https:// doi.org/10.17072/2218-9173-2020-2-176-202
- Соловьев В. С., Шабыков В. И. Этноцен-зовые отношения в Республике Марий Эл: факторы конфликтности // Финно-угорский мир. 2012. № 3-4 (12-13). С. 131-137. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2012/3-4/131-13 (дата обращения: 21.07.2020).
- Сулейманов А. Р., Сулейманова А. Р. Влияние политической воли на формирование и укрепление общегражданской нации // Вопросы политологии. 2018. Т. 8, № 6 (34). С. 48-53. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=35185669 (дата обращения: 21.07.2020).
- Сушенцова В. Г. Проблема республиканского гражданства в новейшей истории Республики Марий Эл // Марийский юридический вестник. 2014. № 11. С. 80-86. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22577490 (дата обращения: 21.07.2020).
- Толкунов Н. С. Регулирование межэтнических отношений на региональном уровне (на примере Республики Мордовия) // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2020. № 1. С. 69-76. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=42581711 (дата обращения: 21.07.2020).
- Ушкин С. Г., Козин В. В., Французов В. В. Повседневные социокультурные практики межнационального взаимодействия населения в полиэтническом регионе // Финно-угорский мир. 2019. Т. 11, № 3. С. 356365. DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.011.2019.03.356-365
- Финно-угорский мир: опыт системного анализа / под ред. Н. М. Арсентьева. Саранск: Изд. центр ИнСтИтут, 2020. 424 с.
- Чиркова О. Н. Механизмы формирования региональной идентичности на примере Республики Мордовия // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2017. № 3 (47). С. 120-125. URL: http://www. vestnik-soc.unn.ru/ru/nomera (дата обращения: 21.07.2020).
- Шабыков В. И., Кудрявцева Р. А., Орлова О. В. Национальность и национальная гордость в ценностной структуре этнической идентичности в Республике Марий Эл (социологическое исследование) // Со-циодинамика. 2018. № 8. С. 33-42. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35427112 (дата обращения: 21.07.2020).
- Шаров В. Д. Этнокультурное развитие марийцев на рубеже веков: некоторые итоги и перспективы // Финно-угроведение. 2016. № 1 (55). С. 24-29. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=37383827 (дата обращения: 21.07.2020).
- Шилов Н. В. Основные тенденции этнопо-литического развития в современной Мордовии // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2016. № 1. С. 119-127. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25941171 (дата обращения: 21.07.2020).
- Achkasov V. A., Abalian A. I., Poliakova N. V. «Region-building»: the specifics of the Russian regional identity policy // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 451. С. 89-95. DOI: https://doi. org/10.17223/15617793/451/12
- Bradshaw A. Propaganda for nation-building // Nature Human Behaviour. 2019. Vol. 3, issue 9. P. 894. DOI: https://doi.org/10.1038/ s41562-019-0737-9
- Dieckhoff A. Nationalism and the multination state. London, Hurst and New York: Oxford Univ. Press, 2016. 232 p.
- Goldscheider C. Population, Ethnicity, and Nation-Building. New York: Routledge, 2019. 301 p. DOI: https://doi. org/10.4324/9780429302640
- Ferreira C. Nation-building in a Multinational State: Between Majority and Minority Aspirations // 50 Shades of Federalism. 2020. May. P. 1-6. Available from: https://50shadesoffederalism.com/theory/ nation-building-in-a-multinational-state-between-majority-and-minority-aspirations/ (accessed 21.07.2020).
- Mylonas H. Methodological Problems in the Study of Nation-Building: Behaviorism and Historicist Solutions in Political Science // Social Science Quarterly. 2015. Vol. 96, issue 3. P. 740-758. DOI: https://doi. org/10.1111/ssqu.12189
- Grigoryan L., Kotova M. National Identity Management Strategies: Do they Help or Hinder Adoption of Multiculturalism in Russia? // Psychology in Russia: State of the Art. 2018. Vol. 11, issue 3. P. 8-35. DOI: https://doi.org/10.11621/pir.2018.0302
- Morova N. S., Lezhnina L. V, Buyukova N. A., Domracheva S. A., Makarova O. A. Diversity and Tolerance in a Multi-Ethnic Region of Mari El Republic, Russia // Review of European Studies. 2015. Vol. 7, issue 8. P. 171-182. DOI: https://doi.org/10.5539/res.v7n8p171
- Ogbonna H. O. Ethnicity capital and nationbuilding // Net Journal of Social Sciences. 2018. Vol. 6, issue 1. P. 9-17. DOI: https://doi. org/10.30918/NJSS.61.17.024
- Stewart K. L. Democratic and Autocratic Nation Building // Nationalities Papers. 2020. P. 1-8. DOI: https://doi.org/10.1017/ nps.2020.24
- Tolz V. Forging the nation: National identity and nation building in post-communist Russia // Europe Asia Studies. 1998. Vol. 50, issue 6. P. 993-1022. DOI: https://doi. org/10.1080/09668139808412578
- Torpey J. About Nation-Building // Sociological Forum. 2020. Vol. 35, issue 1. P. 250-252. DOI: https://doi.org/10.1111/socf.12578