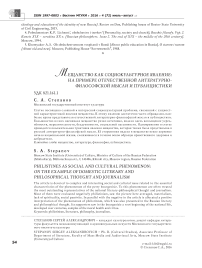Мещанство как социокультурное явление: на примере отечественной литературно-философской мысли и публицистики
Автор: Степанов С.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (72), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сложной и интересной социокультурной проблеме, связанной с сущностной характеристикой явления мещанства. К этому явлению достаточно часто обращались наиболее яркие представители отечественной литературно-философской мысли и публицистики. Большинство из них оценивали мещанство резко негативно, видели здесь воплощение усреднённости, меркантильности, бездуховности, социальной пассивности. Одновременно в статье приводится положительная трактовка явления мещанства, которая также была представлена в русской литературно-философской мысли. Её сторонники видели в мещанстве некое корневое начало национальной жизни, сложившиеся в течение веков образцы нравственного здоровья и добродетели.
Мещанство, литература, философия, публицистика
Короткий адрес: https://sciup.org/144161027
IDR: 144161027 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мещанство как социокультурное явление: на примере отечественной литературно-философской мысли и публицистики
СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат культурологии, доцент кафедры литературы факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры
STEPANOV SERGEY ALEKSANDROVICH – Ph. D. (Cultural Studies), Associate Professor of Department of literature, Faculty of Mass Media and Audiovisual Arts, Moscow State Institute (University) of Culture
Понятие «мещанство» в социокультурной и культурно-философской мысли чаще всего интерпретируется как негативное, нарицательное. Так, в Новой философской энциклопедии, с приведением соответствующих высказываний Э. Шпрангера, К. Маркса, А.-М. Б. Стендаля, отмечается: «… образ мещанина всё более принимает на себя роль антиидеала … он становится образцом недоверчивости, понимания счастья как состояния насыщения, застоя, прозаичности, ориентации на среднее, стремления к видимости добродетели, которая измеряется исключительно полезностью. Мещанство в качестве антиидеала – это порождённые серостью и бесцельностью существования приземлённость притязаний и ненависть ко всему возвышающемуся над нормой, невосприимчивость к эстетической культуре (“полезное, как правило, враждует с прекрасным” – Э. Шпрангер) и категоричность суждений о мире» [10, с. 562–563].
К сущностной характеристике явления мещанства достаточно много обращались представители отечественной литературно-философской мысли, также выделяя его преимущественно в негативном контексте. Например, А. И. Герцен, прошедший в своих социально-философских убеждениях эволюцию от гегелиан-ства до общинного социализма, видел в мещанстве одну из главных угроз социальному прогрессу и духовности. В качестве стержневой основы мещанства Герцен выделял стремление представителей угнетённых низших слоёв к определённому достатку и благополучию, возведённое в культ: «… бездомный подёнщик, батрак, родящийся нищим и нищим умирающий, только делаясь собственником, хозяином, буржуа, отирает пот и без ужаса смотрит на детей; его сын не будет отдан в пожизненную кабалу из-за хлеба, его дочь не обречена ни фабрике, ни публичному дому. Как же ему не рваться в мещане?» [3, с. 470].
Но достигнув средней меры достатка и благополучия, человек обезличивается: «С мещанством стираются личности, но стёртые люди сытее; платья дюжинные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стирается красота породы, но растёт её благосостояние. <…> Толпа гуляющих в праздничный день в Елисейских Полях, Кенсингтон-Гардене, собирающихся в церквах, театрах, наводит уныние пошлыми лицами, тупыми выражениями – но для гуляющих в Елисейских Полях, для слушающих проповеди Лакордера или песни Левассора до этого дела нет, они даже этого не замечают. Но что для них очень важно и заметно – это то, что их отцы и братья их не в состоянии были идти ни на гулянье, ни в театр, а они могут; что те иногда ездили на козлах карет, а они сами ездят, и очень часто, в фиакрах» [3, с. 471]. В итоге утверждается диктат некой воинствующей посредственности, где чинность переходит в вульгарность, бережливость в алчность. Красота и духовность в мещанском мире невозможны.
Очень жёсткую оценку мещанству дал А. М. Горький. По мнению писателя, основой основ мещанского мировоззрения является «уродливо развитое чувство собственности, всегда напряжённое желание покоя внутри и вне себя, тёмный страх перед всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой…» [4, с. 52–53]. Результатом этого являются деструктивные социальные начала – мещанский индивидуализм, паразитизм, пассивная позиция в битве жизни. Это делает мещан, как достаточно категорично подчёркивал писатель, «злыми врагами жизни». Горький развивал указанные мысли как в публицистике, так и в художественных произведениях. Мещанству, представлен- ному не только традиционно олицетворяемым с ним средним слоем городского населения, но и не занимающей активной жизненной позиции интеллигенцией (например, пьеса «Дачники»), противопоставлен рабочий класс, олицетворяющий коллективную народную жизнь. В сфере духовной и творческой мещанство проявляется в стремлении спрятаться от жизни и творчества жизни «в тёмные уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, построенные ими на скорую руку из краденого материала; печально и безнадёжно бродят в лабиринтах метафизики и снова возвращаются на узкие, засорённые хламом вековой лжи тропинки религии…» [4, с. 52–53].
В качестве воплощения мещанства в литературе М. Горький выделял прежде всего представителей символизма. Однако теоретик русского символизма Д. С. Мережковский характеризовал мещанство не менее уничижительно. Он видел в мещанстве «царство вечной середины, вечной посредственности». Образцом этого являются два, на первый взгляд противоположных, гоголевских персонажа – Чичиков и Хлестаков. Однако, несмотря на «… явную противоположность, тайная сущность их одна и та же. Они – два полюса единой силы … и сущность обоих – вечная середина, “ни то ни сё” – совершенная пошлость» [6, с. 572]. Олицетворением данной пошлости, по мысли Д. С. Мережковского, в равной степени являются как желание Чичикова «стать твёрдой стопою на прочное основание», так и желание Хлестакова «заняться наконец чем-нибудь высоким», поскольку «оба они только говорят и думают, как все; а в сущности, ни Чичикову нет никакого дела до “прочных” основ, ни Хлестакову – до горних вершин бытия» [6, с. 572]. Д. С. Мережковский подчёркивает, что это «не два противоположных конца и начала, не две безумные, но всё-таки честные крайности, а две бесчестные, потому что слишком благоразумные, середины, две одинаковые плоскости и пошлости века позитивизма» [6, с. 572].
Выделенное Д. С. Мережковским «царство вечной середины и посредственности» в ХХ веке ещё более укоренилось, трансформировалось в некий «внутренний Китай». Однако «царству вечной середины» присущи негативные социальные крайности: с одной стороны, плод «воинствующего» мещанства – хулиганство, босячество, черносотенство, а с другой стороны, «плод внутреннего, духовного мещанства внешнее международное зверство – милитаризм, шовинизм» [7, с. 387–389]. Именно в мещанстве Д. С. Мережковский видит начало предрекаемого им страшного царства Грядущего Хама, основанного на идеалах социализма, который «предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства», а также начало анархизма, который «не предопределяет никакого социального творчества, не связывающего себя никакой социальной ответственностью за будущее перед прошлым, и с исторической мели мещанства выплывающего в открытое море неизведанных глубин…» [7, с. 387–389].
О том, что идеалы социализма ведут к торжеству мещанства, говорили и другие представители русской философии и литературы. Так, Н. А. Бердяев выделял здесь «тёмную стихию толпы, обожествлённого Коллектива, однородного и внекуль-турного населения… Это надвигающееся мещанство, враждебное всему истинно благородному, индивидуальному, творческому…» [2, с. 255].
-
В. В. Набоков в 1927 году писал: «Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу
в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на моё свободное я, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства» [цит. по: 8, с. 147].
Подытоживая приведённые высказывания, отметим, что для сторонников социалистических идей А. И. Герцена и М. Горького главным проявлением мещанства является стремление к материальному благополучию и покою, благодаря которому человек теряет свою индивидуальность, становится ограниченным и меркантильным, неспособным к активному социальному и духовному творчеству. Их оппоненты в идеях социализма выделяют изначальное стремление к уравниванию, то есть к усреднению и обезличиванию человека, что, соответственно, также формирует мещанство, причём в агрессивной форме.
В конце 60-х годов ХХ века критик и публицист М. П. Лобанов опубликовал статью «Просвещённое мещанство», вызвавшую острые дискуссии. В качестве отличительной черты рассматриваемого феномена критик выделяет торжество того явления, которое принято называть псевдоинтеллигенцией и «образованщи-ной». Эти люди и составляют просвещённое мещанство. Им присуща чрезмерная суетность, меркантильность, нарциссизм, следование примитивным шаблонам по западному образцу. В засилье «просвещённого мещанства» М. П. Лобанов видит непосредственную угрозу национальной культуре: «Всё на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. <…> Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не способно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации?
Для мещанства это пустота. Для него “общие” идеи пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха...» [5, с. 51–52]. Мысли, высказанные в статье «Просвещённое мещанство», сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Например, часто отмечается, что выделенные М. П. Лобановым явления сыграли немаловажную роль в трагических событиях последних десятилетий [9, с. 12; 13, с. 43; 14, с. 129].
Но как отмечалось выше, изначально мещанство есть средний слой городского населения. Свойственная ему «середина» проявляется в том числе и в следовании сложившимся в течение веков общепринятым нормам добродетели , где косность, меркантильность и пошлость являются лишь крайними формами, суррогатами [15, с. 33]. В связи с этим феномен мещанства можно трактовать также в качестве образца достойной жизни, воплощения нравственного здоровья, пусть и в усреднённом варианте.
У отмеченной концепции в отечественной литературно-философской мысли также были свои сторонники. Среди них и А. С. Пушкин. В стихотворении «Моя родословная» великий поэт рассказывает о своих предках, на протяжении веков честно служивших России. История рода Пушкиных неразрывно связана с национальной историей, с её трагическими и героическими страницами, с судьбой миллионов соотечественников [1, с. 41]. И поэтому потомок знатного дворянского рода с гордостью определяет себя как мещанина: «Я грамотей и стихотворец... / Я не богач, не царедворец, / Я сам большой: я мещанин» [12, с. 494]. В мещанстве Пушкин видит некое стержневое начало, корневую основу русской жизни.
Выделим здесь также М. М. Пришвина. Известный прежде всего в качестве певца русской природы, Пришвин тем не менее рового в русской жизни. Тоталитарные много внимания уделял и социокультурной проблематике, неоднократно обращаясь к явлению мещанства. Мещанство М. М. Пришвин воспринимал как олицетворение всего простого, чистого и здо- социально-политические и духовные идеи, спровоцировавшие многие трагические события русской истории, писатель определял как «дворянскую занозу в здоровом мещанском теле» [11, с. 84].
Список литературы Мещанство как социокультурное явление: на примере отечественной литературно-философской мысли и публицистики
- Аронов А. А. К вопросу о ментальности отечественной культуры: развитие рывками // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 38-45.
- Бердяев Н. А. Революция и культура // О русских классиках / [авт. вступ. ст. К. Г. Исупов; сост. и авт. коммент. А. С. Гришин]. Москва: Высшая школа, 1993.
- Герцен А. И. Собрание сочинений: в 9 томах. Москва: Xудожественная литература, 1955-1958. [Том 7]: Статьи 1853-1863 гг. Москва, 1958. 523 с.
- Горький А. М. Собрание сочинений: в 30 томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1949-1956. [Том 23]: Жизнь Клима Самгина 1925-1936. Москва. 1953. 480 с.
- Лобанов М. П. Просвещённое мещанство // Молодая гвардия. 1968. № 4. С. 47-53.