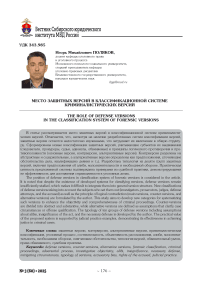Место защитных версий в классификационной системе криминалистических версий
Автор: Поляков И.М.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается место защитных версий в классификационной системе криминалистических версий. Отмечается, что, несмотря на наличие разработанных систем классификации версий, защитные версии остаются недостаточно изученными, что затрудняет их включение в общую структуру. Сформированы новые классификации защитных версий, учитывающие субъектов их выдвижения (следователи, прокуроры, судьи, адвокаты, обвиняемые) и принципы логического противоречия и противоположности (основные версии, контрверсии, альтернативные версии). Контрверсии разделены на абстрактные и содержательные, а альтернативные версии определены как предположения, уточняющие обстоятельства дела, квалификацию деяния и т.д. Разработана типология из десяти групп защитных версий, включая предположения об алиби, малозначительности и необходимой обороне. Практическая ценность предложенной системы подтверждена примерами из судебной практики, демонстрирующими ее эффективность для достижения справедливости в уголовных делах.
Защитные версии, контрверсии, альтернативные версии, криминалистическая классификация, уголовный процесс, состязательность, объективность расследования, алиби, малозначительность, необходимая оборона, смягчающие обстоятельства, типология версий, обвинительный уклон, права обвиняемого, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140312421
IDR: 140312421 | УДК: 343.985
Текст научной статьи Место защитных версий в классификационной системе криминалистических версий
К лассификация версий играет ключевую роль в изучении криминалистических методов, позволяя упорядочить знания и подчеркнуть значение этого инструмента для деятельности участников уголовного судопроизводства, таких как следователи, адвокаты и судьи. Современная криминалистика разработала устойчивую систему категоризации, разделяющую версии на группы в зависимости от их правовых оснований. Многие из этих групп получили признание и закреплены в научной и учебной литературе.
Предлагается уточнить существующие категории криминалистических версий, уделяя особое внимание версиям, защищающим интересы обвиняемого, и ввести новые группы, сосредоточенные исключительно на таких версиях.
Удачной является классификация версий «по отношению к виновности»: версии обвинения и версии защиты. Указанные два вида версий определяют совершенно полярные подходы, поэтому характерны для состязательного процесса, предупреждая его односторонность и необъективность.
Подход, предложенный процессуалистами, разделяющий версии на обвинительные и оправдательные, не вполне точен. Понятие «оправдательные версии» предполагает необходимость доказывания отсутствия преступления или обстоятельств, исключающих его противоправность. Однако предположения, выдвигаемые в пользу обвиняемого, часто направлены не на полное оправдание, а на снижение степени ответственности или улучшение его положения в процессе. Поэтому более подходящим термином является «защитные версии». По нашему мнению, он позволяет унифицировать разнообразную научную терминологию о версиях в интересах обвиняемого (версии о невиновности, версии защиты, оправдательные версии, защитительные версии, отрицательные версии, версии подозреваемого, обвиняемого, адвокатские версии, контрверсии, альтернативные версии и т.д.).
Теперь перейдем к классификации именно защитных версий. В научной литературе им уделяется недостаточно внимания, поэ- тому вопрос их классификации остается открытым. В советский период о классификации версий защиты писала В.С. Бурданова, выделяя их: 1) по содержанию обстоятельств, подлежащих доказыванию; 2) по лицам, их обосновавшим; 3) по всем возможным в данной ситуации обстоятельствам, требующим неотложной проверки на определенных этапах расследования [1, с. 89].
Позднее А.Ф. Реховским было предложено классифицировать типичные версии защиты как: 1) версии о полном или частичном алиби подзащитного; 2) версии о том, что данное деяние совершено не подзащитным; 3) версии о неправильной уголовно-правовой квалификации содеянного подзащитным; 4) версии об отдельных обстоятельствах дела (об отсутствии материального ущерба или уменьшении его размера, причиненного подзащитным; опровержение обстоятельств, отягчающих ответственность; поиск смягчающих обстоятельств; о неправильности применения меры пресечения) [11, с. 156]. К сожалению, автор уделил незначительное внимание этим версиям, раскрыв только первый пункт, касающийся алиби.
У остальных авторов мы не нашли какой-либо попытки упорядочить защитные версии. Версии защиты вообще не всегда рассматриваются как актуальные и поэтому не включаются в перечень версий, которые следует обсуждать на страницах научной литературы.
Для систематизации защитных версий предлагается их разделение по субъектам, которые их формулируют:
-
1) версии, выдвигаемые дознавателями, следователями, прокурорами или государственными обвинителями;
-
2) версии, предложенные судом;
-
3) версии, сформулированные адвокатом, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным.
Версии, выдвигаемые должностными лицами, такими как следователи или прокуроры, условно называют защитными, хотя точнее их обозначать как следственные или прокурорские в зависимости от субъекта. Термин «защитные версии» акцентирует их ориентацию на интересы обвиняемого, в отличие от обвинительной направленности. При этом следственная версия остается целостной, но для удобства анализа допустимо выделять ее защитный аспект.
Что же касается работы с указанными версиями стороны защиты, то для них указанные версии, безусловно, являются основными и полноструктурными с точки зрения фактической и теоретической базы.
Отдельно стоит выделить группу версий по основанию «логического противопоставления»: 1) основная (обвинительная, интегральная) версия; 2) контрверсия; 3) альтернативная версия [9, с. 92-93].
Природа основной версии достаточно хорошо освещена в науке. По сути, учение о версиях посвящено анализу базовой обвинительной версии и ориентирует следователя на работу именно с ней как приоритетной. Упоминание о контрверсиях или альтернативных версиях происходит без углубленного их рассмотрения, хотя именно они выступают взаимодополняющими категориями версионного процесса, делая его разнообразным и полным. Еще Н.П. Яблоков писал, что всегда требуется выдвижение нескольких (не менее двух) следственных версий, ибо именно такой путь познания обеспечивает полноту, объективность, всесторонность и достоверность результатов расследования. Одно же выдвинутое предположение по тем или иным требующим выяснения обстоятельствам уголовного дела не может считаться следственной версией. Не имея альтернативных суждений, оно превращается в утверждение [14, с. 65].
Контрверсия представляет собой логически необходимое предположение, противоречащее обвинительной версии и полностью оспаривающее расследуемое событие или причастность лица к его совершению, часто без фактической основы.
С точки зрения формальной логики обвинительная версия и контрверсия представляют собой контрадикторные понятия, находящиеся в противоречии по отношению друг к другу. Они носят взаимоисключающий характер и проявляются в умственном противостоянии аргументов, которое часто обо- значается через приставку отрицания «не»: «виновен» – «невиновен». В процессе версионного познания особая важность придается одновременному рассмотрению указанных версий в ходе расследования уголовных дел. Этот подход основан на принципе дихотомии, который предполагает разделение понятия на две взаимоисключающие части, в контексте нашего исследования – на версию о причастности и версию о непричастности лица к совершенному преступлению.
Л.Я. Драпкин справедливо отмечал, что какой бы надежной ни казалась основная версия, необходимо выдвигать и контрверсию, без которой обойтись невозможно, поскольку она предохраняет следователя от односторонности, субъективизма, излишней увлеченности и необъективности расследования [2, с.82].
По мнению А.В. Руденко: «Контрверсия – это предположительное суждение следователя об обстоятельствах дела, диаметрально противоположное «основной версии» [12, с. 80].
Заметим, что в приведенном определении акцент сделан не на термин «обвинительная», а на «основную» версию. Разумеется, в ходе следствия основной версией выступает обвинительная версия, однако при наличии достаточного количества доказательств, свидетельствующих о невиновности обвиняемого, в качестве основной в какой-то момент может стать контрверсия.
Обратим внимание, что с контрверсией могут работать и иные участники уголовного процесса. Так, О.Н. Коршунова отмечает, что субъектом выдвижения и проверки версий может выступать и прокурор. Он же может выдвигать и проверять контрверсию, содержание которой зависит от стадии уголовного процесса и этапа осуществления уголовного преследования и качества имеющихся по делу доказательств [6, с. 174]. Далее автором указано, что прокурор, исходя из задач защиты и обеспечения прав и законных интересов личности, обязан выдвигать, как минимум, одну новую версию (контрверсию): преступление не было совершено либо было совершено не тем лицом, которое привлечено к уголовной ответственности [6, с. 183].
А.Г. Филиппов писал о судебной версии, как контрверсии, которую судья выдвигает, проверяя окончательную версию обвинения, изложенную в обвинительном заключении. Кстати, автор разделяет судебные контрверсии на общую, оспаривающую обвинительную версию в целом, и частные контрверсии, выдвигаемые в противовес частным версиям («имела место не кража, а другое преступление»; «преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо») [5, с. 278]. Такие контрверсии можно рассмотреть в качестве самостоятельной классификационной группы защитных версий.
Как видим, контрверсия – это информационно-логический инструмент для работы не только защитника, но и уполномоченных должностных лиц: следователя, дознавателя, прокурора, государственного обвинителя, судьи.
Следственная практика свидетельствует, что увлечение только одной версией, игнорирование контрверсий ведет к самым негативным последствиям. Иными словами, в ходе расследования должны строиться и тщательно проверяться не только версии обвинения, но и версии защиты, тогда уголовные дела не станут «разваливаться» в судах, поскольку их материалы будут содержать доказательства, опровергающие такие версии [4, с. 22].
Не все исследователи согласны с выделением контрверсий и основных версий в отдельные категории. В.Я. Колдин считает подход «версия – контрверсия» спорным, утверждая, что контрверсия лишь отрицает основную версию, не обладая собственной содержательной основой, что снижает ее научную значимость [3, с. 57-58]. По его мнению, это может привести к формальному противопоставлению версий, не способствующему установлению истины. А.Ф. Рехов-ский также критикует использование термина «контрверсия», указывая, что это создает впечатление их второстепенности или искусственности, что может усилить обвинительный уклон [10, с. 4].
Однако такая критика не учитывает важную роль контрверсий и альтернативных версий в соблюдении принципов состязательности и объективности уголовного процесса.
В.Я. Колдин, подчеркивая отсутствие фактической базы у контрверсий, недооценивает их функцию как инструмента, предотвращающего субъективность следователя. Л.Я. Драпкин отмечает, что контрверсия необходима для защиты от предвзятости, даже если она изначально не подкреплена доказательствами [2, с. 82]. В отличие от мнения А.Ф. Реховского, термин «контрверсия» не умаляет значимости защитных версий, а подчеркивает их логическое противопоставление обвинительным, что соответствует принципу взаимоисключения. Кроме того, А.Ф. Реховский не предлагает альтернативного подхода к классификации версий в интересах обвиняемого.
А.М. Ларин поддерживает выделение контрверсий, указывая, что они основаны на тех же доказательствах, что и основные версии, но предлагают альтернативные интерпретации обстоятельств дела [7, с. 59]. Это подчеркивает их необходимость для объективного расследования. Однако А.М. Ларин не разработал систематизированной классификации защитных версий, что ограничивает практическую ценность его подхода.
Контрверсии можно разделить на 1) абстрактные и 2) содержательные.
В основу абстрактных контрверсий мы положили мнение Л.Я. Драпкина, полагавшего, что контрверсия лишена собственной фактической и теоретической базы и строится не в результате сложного многоэтапного версионного процесса, а более простым путем, с помощью логической операции отрицания (через приставку контр – (против)) исходного материала, заключенного в основную следственную версию. Фактическая база может выступать основанием для выдвижения нескольких версий, но все эти версии будут основными. Контрверсия отражает логические возможности, т.е. такие варианты версионных объяснений, которые не связаны с имеющейся по делу информацией, в то время как основная версия отражает фактические и логические возможности, связанные с фактической базой [2, с. 32, 34, 82, 88]. Получается, что контрверсия носит фантомный характер, не имеющий под собой оснований, и выдвигается только умозрительно (логически), что-

Вестник Сибирского юридического института МВД России
бы создать видимость версионной конкуренции, в то время как получившие фактическое и теоретическое обоснование контрверсии тут же переходят в разряд основных и проверяются равнозначно.
Здесь приходится поддержать А.М. Ларина, который, наоборот, полагал, что базой для конкурирующей версии (контрверсии) служат те же фактические данные, на которых построена основная версия, поэтому термины «основная версия» и «контрверсия» определяют не характер версий самих по себе, а форму логической связи между ними, которая представляет здесь строгую дизъюнкцию (взаимоисключение, несовместимость). К тому же неудачность термина «основная версия» как антонима «контрверсии» может вызвать ошибочную мысль, будто контрверсия как «неосновная» требует меньшего внимания [7, с. 59].
Очевидно, что не все контрверсии представляют собой пустотелую конструкцию, лишенную фактического обоснования (внутренней структуры). Ряд версий в интересах обвиняемого могут подкрепляться полноценной фактической и теоретической базой, быть мотивированными и со временем стать основными версиями, проверка которых покажет невиновность лица, привлеченного к уголовной ответственности. Такие версии можно назвать содержательными контрверсиями.
В качестве контрверсий могут выступать версии об оговоре, о самооговоре, алиби, о непричастности лица к совершенному преступлению при отсутствии алиби и т.д.
Завершить обсуждение вопроса о контрверсии хотелось бы словами Р.С. Белкина, который обратил внимание на, что поскольку допустимы сомнения в достоверности и полноте исходных данных, постольку возможно выдвижение наряду с этой версией и контрверсии, т.е. прямо противоположного предположения («отрицательной версии»). Наличие контрверсии отражает требование всесторонности, объективности, полноты доказывания, отсутствие предвзятости при расследовании. Таким образом, можно говорить в этом случае не о единственной версии, а о двух версиях – «положительной» и «отрицательной» [13, с. 325-326].
Альтернативная версия – это обоснованное предположение, не оспаривающее в целом расследуемое событие, но предлагающее иное объяснение или оценку доказательствам, роли и степени участия обвиняемого, квалификации деяния, обстоятельствам, исключающим, освобождающим или смягчающим уголовную ответственность и наказание.
В отличие от контрверсии (контрадикторной по отношению к основной версии, т.е. противоречащей ей) альтернативная версии является контрарной, противоположной по отношению к основной версии и поэтому допускающей разное толкование преступного факта. Так, В.Я. Колдин писал, что если одному обстоятельству дела могут быть даны различные объяснения (версии), то речь идет об альтернативных версиях [3, с. 57-58] .
Примерами альтернативных версий могут служить версии о наличии обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния (версии о малозначительности, о невменяемости подследственного, о добровольном отказе от совершения преступления, о крайней необходимости, о необходимой обороне и т.д.), версии о наличии обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности (по примечанию к статье УК РФ, истечение сроков давности и т.д.), версии о наличии викти-мологического (провоцирующего) поведения со стороны потерпевшего, об отсутствии материального ущерба, версии о наличии иного состава преступления или отдельных квалифицирующих признаков, версии о наличии неоконченного преступления и т.д.
Мы полагаем, что применение трехкомпонентной классификации версий – основной, контрверсии и альтернативной версии – способствует углубленному пониманию различий, характерных для данной криминалистической категории с научной точки зрения.
Сосуществование этих трех видов версий формирует комплексную систему для расследования, позволяющую следователю избежать одностороннего обвинительного подхода. Использование контрверсий и альтернативных версий способствует глубокому анализу всех возможных обстоятельств дела, обеспечивая тем самым более объективное и всестороннее расследование. Это не только помогает выявить истинного преступника, но и защищает права тех, кто может быть невиновно обвинен.
Таким образом, для достижения справедливости и точности в расследовании уголовных дел крайне важно придавать равное значение работе со всеми видами версий – основными, контрверсиями и альтернативными. Это требует от следователя не только профессиональных знаний и навыков, но и открытости ума, готовности к критическому анализу и переоценке имеющихся данных в свете новой информации.
Думается, что для построения теоретической модели полной версионной системы по уголовному делу необходимо использовать три вида версий: основную (обвинительную) версию, контрверсию и альтернативную версию.
Возможность дальнейшего качественного разделения защитных версий можно осуществить через типологический подход (типология версий), который включает десять категорий защитных версий:
-
1) защитные версии об отсутствии события преступления;
-
2) защитные версии о непричастности лица к совершенному преступлению, включая алиби;
-
3) защитные версии об отсутствии состава преступления;
-
4) защитные версии о наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния;
-
5) защитные версии о наличии обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности;
-
6) защитные версии о наличии смягчающих обстоятельств, влияющих на характер и степень общественной опасности деяния, иным образом улучшающих положение обвиняемого (состояние здоровье, семейное положение и т.д.);
-
7) защитные версии, вызванные необходимостью изменения квалификации деяния;
-
8) защитные версии, вызванные недоказанностью преступления или процессуальными ошибками и нарушениями;
-
9) защитные версии, вызванные ошибками и нарушениями, связанными с применением законодательства об ОРД;
-
10) защитные версии, вызванные ошибками и нарушениями, допущенными в ходе экспертных исследований, в работе специалиста.
Разработанная система категоризации, включающая основные (обвинительные) версии, контрверсии и альтернативные версии, а также типологию из десяти групп защитных версий, обладает рядом достоинств по сравнению с существующими подходами:
-
– всесторонний охват: в отличие от традиционных систем, сосредоточенных преимущественно на обвинительных версиях, как, например, у Н.П. Яблокова [14, с. 65], предложенный подход выделяет версии в интересах обвиняемого в самостоятельную категорию. Это позволяет упорядочить предположения, выдвигаемые следователями, прокурорами, судьями и адвокатами, что ранее не рассматривалось в единой системе;
– соответствие принципу состязательности: разделение на контрверсии и альтернативные версии отражает требования состязательного процесса, закрепленные в ст. 15 УПК РФ. Контрверсии, противоречащие обвинительным предположениям, побуждают к проверке всех возможных вариантов развития событий. Например, в деле об убийстве контрверсия о несчастном случае (падение с высоты) привела к прекращению дела за отсутствием состава преступления. Альтернативные версии, в свою очередь, способствуют более глубокому анализу доказательств, как в случае переквалификации обвинения во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ);
– практическая направленность: типология из десяти групп защитных версий (например, о наличии алиби, малозначительности деяния или необходимой обороне) предоставляет следователям и адвокатам четкий инструмент для работы с материалами дела. Так, в деле о причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) версия о необходимой обороне, выдвинутая адвокатом, привела к оправданию обвиняемого, что подтверждает прикладную ценность предложенной системы;
Вестник Сибирского юридического института МВД России
– гибкость и универсальность: в отличие от подхода В.Я. Колдина, ограничивающего контрверсии логическим отрицанием основной версии, предложенная система разделяет их на абстрактные и содержательные. Это позволяет учитывать различия в их доказательственной базе, делая классификацию применимой как на стадии следствия, так и в судебном разбирательстве;
– разрешение терминологических споров: использование термина «защитные версии» вместо «оправдательных» или «отрицательных» устраняет путаницу, связанную с узким пониманием оправдания. Такой подход охватывает предположения, направленные не только на полное освобождение от ответственности, но и на смягчение наказания или улучшение процессуального статуса обвиняемого.
При этом следует отметить, что мы придерживаемся расширительного подхода не только относительно субъектов версионного процесса, но и в части фактической, правовой и доказательственной информации, обуславливающей выдвижение указанных вер- сий. Такие версии обозначены в п.п. 7-10 предложенной типологии и предполагают изучение адвокатом материалов уголовного дела в этом сегменте с последующим выдвижением защитных версий как реакции на выявленные ошибки и нарушения.
Выделение защитных версий в самостоятельные группы обогащает систему классификации криминалистических версий, делая ее более полной и практичной. Предложенный подход обеспечивает учет логической, фактической и процессуальной роли версий, способствуя объективному и всестороннему расследованию. Это подтверждается примерами из судебной практики, такими как оправдание обвиняемых по делам о необходимой обороне или прекращение дел за отсутствием состава преступления. Таким образом, разработанная классификация представляет собой значимый шаг в развитии теории криминалистических версий, предлагая структурированный и ориентированный на практику подход, который защищает права обвиняемых и предотвращает обвинительный уклон.