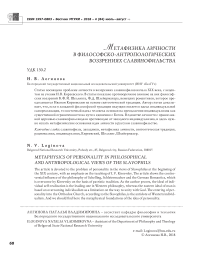Метафизика личности в философско-антропологических воззрениях славянофильства
Автор: Логинова Н.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (84), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме личности в воззрениях славянофилов начала XIX века, с акцентом на учении И.В. Киреевского. В статье показано противоречивое влияние на них философских воззрений В.Ф. Й. Шеллинга, Ф.Д. Шлейермахера, немецких романтиков, которое преодолевается Иваном Киреевским на основе святоотеческой традиции. Автор статьи доказывает, что, если в западной философской традиции ведущим является идеал индивидуальной самореализации, то восточный идеал человека основан на преодолении индивидуализма как существенной ограниченности на пути к единению с Богом. В единстве личности с православной церковью славянофилы видели противоядие от западного индивидуализма, и здесь нужно искать метафизические основания идеи личности в русском славянофильстве.
Славянофилы, западники, метафизика личности, святоотеческая традиция, рационализм, индивидуализм, киреевский, шеллинг, шлейермахер
Короткий адрес: https://sciup.org/144161197
IDR: 144161197 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Метафизика личности в философско-антропологических воззрениях славянофильства
В стремлении найти адекватные ответы на вызовы истории и обрести достойное место в мире россияне неизбежно обращаются к самобытным духовным началам и основаниям своего национального бытия. В развитии русской философии был большой период становления, и значительно позднее, чем в Западной Европе, начала развиваться философско-культурологическая мысль. Именно к середине XIX века интерес к теме личности, ее исторической судьбы становится в России философски осмысленным. И это осмысление проблемы личности начинает обретать законченные формы в XIX веке в диалоге с немецкой классической философией.
Русская философия XIX века во всех своих ипостасях занимается проблемой личности. В. В. Зеньковский определяет русскую философскую мысль одновременно как самую человечную и самую личностную. Русская философия, пишет он, «больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории» [7, с. 14]. Как отмечает в своем исследовании русской философии О. К. Авдеев, «всю историю русской философии, при желании, можно представить как своеобразную «борьбу за личность» [1, с. 3]. Но в этих поисках русской мысли была присуща «своеобразная раздвоенность».
Богослов В. Н. Лосский в свое время отмечал: «Я <…> должен признаться, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах или Ипостасях Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее, христианская антропология существует <…> как в Визан- тии, так и на Западе, и <…> это учение о человеке относится к его личности. Да и не могло бы оно быть иным для богословской мысли, обоснованной на откровении Бога живого и личного, создавшего человека “по своему образу и подобию”» [10, с. 107]. Какой же смысл вкладывали русские философы в понятия «личность» и «человек»? Отождествляли (или не отождествляли) они их в своих философских трудах?
Нелишне уточнить лингвистический аспект проблемы. Лингвисты и представители лингвистической антропологии сходятся во мнении, что понятие «личность» в его современном значении появилось в русском языке значительно позже, чем само слово «человек». В. В. Виноградов в работе «История слов» отмечает, что: «…в памятниках древнерусской письменности XI‒XV вв. понятие “личность” не зарегистрировано» [4, с. 45]. По различным историческим данным, временем появления термина «личность» в русских текстах является вторая половина XVII века.
На формирование метафизических представлений о человеке, о личности в русской философской мысли допетровского периода влияла византийская традиция, которая сложилась в восточнохристианской философско-культурологической парадигме с характерными для нее представлениями о жизни и человеческом бытии. Стоит отметить, что в Византии культурообразующим фактором в отношении человека были принципы взаимоотношений человека и Бога, человека и Космоса, человека и социума, а также жизненных идеальных духовно-нравственных ценностей человека. В соответствии со сложившейся в Византии традицией человек осмысливался именно в глобальных категориях: Бог – Космос – социум.
Стоит согласиться с В. В. Виноградовым, который считал, что до XVIII века в русских философских изысканиях понятие «личность» определялось только в следующих значениях: это «личные свойства кого-нибудь», это «особенность, свойственная какому-нибудь лицу или существу», это «привязанность или пристрастие, любовь к себе», это «эгоистическое отношение к физическому или социальному лицу», это «личное пристрастие к кому-нибудь» или может быть «оскорбительный намек на какое-нибудь лицо» [4, с. 820].
Отметим, что в русской философии светской направленности проблема личности интересовала, в первую очередь, персоналистов. При этом Н. О. Лосский утверждает, что русский персонализм отличается от западного и соответственно, «является, по всей вероятности, наиболее характерной чертой русской философии» [11, с. 216]. В русском персонализме «личность» и «индивидуальность» – понятия противоположные, личность не мыслится как нечто данное свыше.
Но для нас важно понять, как формулировалась эта проблема в спорах славянофилов и западников, каким образом они определяли своеобразие личностного начала в человеке, и где истоки метафизической постановки проблемы личности в русском славянофильстве. Так, в своих воспоминаниях А. И. Герцен приводит эпизод из спора 1847 г. между К.Д. Кавелиным и Ю. Ф. Самариным о наличии личности в Древней Руси. Кавелин утверждает, что в России отсутствует понятие (образ) личности в ее европейском понимании, то есть личность как субъект права. Он связывает это с отрицательным влиянием на русскую историю. А Самарин доказывает, что у русских имелось понятие «личность», но с особой, православной спецификой («личность» как дар самоотречения), и указывает на позитивное влияние этого образа на политическую и религиозную жизнь Руси.
Важно то, что в истории русской философской мысли такие понятия как личность, субъект, «я» складываются в 30–40-е гг. XIX века в основном благодаря рецепции немецкой романтической философии. Это происходит в русской публицистике (причем языковая подкладка этой рецепции вовсе не обязательно является только немецкой; весьма часты примеры заимствования немецкой философской терминологии из французского языка) [14, с. 59], а в дальнейшем все это входит также в оборот у поэтов, писателей, критиков и интеллигенции в целом.
Характерно, что русскими мыслителями была предпринята попытка рассмотреть проблему человека также при помощи трансцендентального идеализма и философии тождества Ф. В. Й. Шеллинга, с использованием его натурфилософии, а для многих на вершине трансцендентального идеализма Шеллинга находилась не логика, а искусство и эстетика. При этом влияние Шеллинга не бесспорно, как красочно и безошибочно отмечал эту тенденцию Г. Шпет, у которого мы читаем, что «шеллингизм оставлял своего адепта перед множеством дверей, в любую ему представлялось войти с философским сознанием… И толкались в двери теософии, натурфилософии, антропологии, философии искусства, философии истории, всюду вносили новый дух, вызывали в умах брожение и неудовлетворенность», и далее он отмечает, что «общая черта истории шеллингианства – это выделение какой-либо одной мысли и развитие её в специальную научную область» [19, с. 296].
В этом свете среди русских писателей и философов была крайне популярна философия искусства Шеллинга. Но духовно-академическую среду больше интересовал трансцендентальный идеализм Шеллинга. При этом все его основные идеи рассматривались через призму православия.
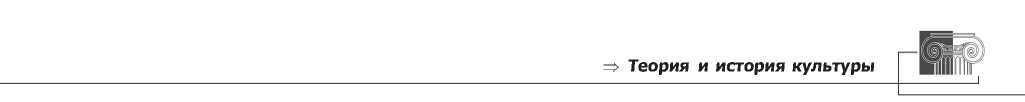
Можно согласиться с Т. И. Липич в том, что «многоаспектность философии Шеллинга вела к тому, что его последователи могли быть и натурфилософами, и эстетиками, могли разрабатывать трансцендентальный идеализм, или даже один из аспектов его феноменологии духа, или развивать диалектическую логику, или идти своим непроторенным путем, усваивая и перерабатывая его идеи» [9, с. 72].
Таким образом, именно философские работы Шеллинга в значительной степени повлияли на развитие русской философской мысли, войдя в ткань размышлений русского славянофильства. Можно согласиться с С. С. Аверинцевым, который отмечал, что, во многом опираясь на Шеллинга, славянофилы критиковали Запад с разрушающим его рационализмом, который губит цельность личности. Но в отношении Шеллинга сохранялась и двойственность в оценках. Так, по мнению А. С. Хомякова, у Шеллинга «высокие истины» перемешаны в заблуждениях произвольной гностики. И. В. Киреевский высказывал неудовлетворенность философией Шеллинга и считал, что этот мыслитель не смог «подняться до “верующего мышления”», «ибо образ разумной деятельности изменяется… по той степени, на которую разум восходит» [8, с. 271]. При этом он давал негативную оценку попыткам Шеллинга обосновать «новую», «чистую» религию. «Жалкая работа создавать себе веру»,– пишет Киреевский, и далее: «…Шеллингова христианская философия явилась и не христианскою и не философией: от христианства отличалась она самыми главными догмами, от философии ‒ самим способом познания» [8, с. 271].
Здесь стоит еще подробнее остановиться на отношении И. В. Киреевского к немецкой философии. Из противоречивого отношения к немецким романтикам, Шеллингу и Шлейермахеру как раз и вырастает своеобразие славянофильского понимания личности. Уже в первый период увлечения немецкой философией у Ивана Киреев- ского, где он рассуждает о судьбе России, о просвещении человека, просвечивает неудовлетворенность немецким абстрактным рационализмом и дуализмом, и частности в отношении проблемы метафизики личности у Ф. Д. Шлейермахера. Это касается того, как Шлейермахер под влиянием идей романтизма говорит о возможности самосовершенствования человека только через любовь, посредством которой достигается единство с так называемым Бесконечным и происходит моральное развитие личности.
Следует уточнить, что Шлейермахер выделял благочестивое чувство, находящееся в зависимости от Бесконечного, видя в этом фундамент подлинной религиозности личности. Она возможна только на основе чувства, которое Шлейермахер считал рычагом религиозной жизни. Это означает, что Богопознание достигается в личном опыте вне Божественного Откровения: не «извне», а «изнутри себя». По словам теолога А. Макграта, Ф.Д. Шлейермахер «свел христианство не более чем к религиозному опыту, сместив, таким образом, акцент с Бога на человека». Но И. В. Киреевский, споря с Шлейермахером в свете православной антропологии, смог увидеть метафизическое единство земного и небесного, человеческого и божественного, которое и создает подлинную цельную личность. Киреевский развивает представления о личности, исходя из противостояния «внешнего» человека и «внутреннего» человека. «Внутренний» человек – это самопознание и преображение через любовь к Богу, «Внешний» человек – это набор социальных ролей, регламентирующийся договорной моралью [8, с. 229]. Таким образом, для славянофила Киреевского индивидуальность является лишь «стартовой площадкой» для преображения личности в горизонте вечного Идеала.
Итак, именно немецкая классическая философия в лице Ф. В. Й. Шеллинга и Ф.Д. Шлейермахера во многом сделала возможным и необходимым обращение Рос- сии к самой себе в стремлении определить свое место среди других народов и в определении сущности русского человека. Но и под влиянием европейского романтизма славянофилы и западники пошли разными путями в решении этих проблем.
Особая тема – русский романтизм и его проявления в литературе и философии начала XIX века. Как же он повлиял на становление славянофильской метафизики личности? Представители русского романтизма начала XIX века – это любомудры Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков. И. П. Киреевский, а также А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев. В свете романтического движения человек здесь наделяется чертами нового Адама, который должен преобразовывать свое бытие.
Рассматривая романтический период творчества М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Михайлова подмечает, что в период романтизма в творчестве русских мыслителей перед нами уже не просто человек вообще, а человек живой, чувствующий делается выразителем самоутверждения личности. Она также отмечает, что «исторические условия 30-х гг. XIX века в особенности содействовали тому, что проблема личности стала в русской литературе тех лет формой выражения идей общественной борьбы» [12, с. 126–128]. Романтическое творчество русских поэтов, в том числе А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и других определяет всю русскую культуру этого периода.
Анализируя данную проблематику, Т. И. Липич замечает, что «литература и философия как формы национального самосознания возникают тогда, когда народ начинает ощущать потребность в осознании самого себя, своего места в мире, когда совершаются радикальные изменения в мышлении, способствующие развитию разнообразных сфер жизнедеятельности общества. Поэтому прямые и косвенные литературно-философские диалогиче- ские отношения как внутри страны, так и между странами, способствуют духовному единению и консолидации нации» [9, с. 280]. В русской культуре действительно развивались полярные видения личности и судьбы России, но по-своему дополняющие друг друга в рамках «диссонансной» культуры. Как отмечал И. И. Евлампиев, «гениальность Пушкина состояла в том, что он создал художественную “парадигму”, которая явилась точным отражением “диссонансного” мировоззрения и, в первую очередь, соответствующего представления о человеке» [6, с. 58].
Отметим, что А. С. Пушкин проявлял немалый интерес к проблеме будущего России. В опубликованной в 1830 году рецензии на 2-й том Н. А. Полевого «История Российского народа» Пушкин высказывает свое отношение к проблеме «Россия и Запад», защищая исторический подход Н. М. Карамзина и критикуя подход Полевого к истории России, считая, что на его методы повлияла французская историографическая школа. Делая выводы, он пишет: «Гизо объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение… Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизо-том из истории христианского Запада» [16, с. 323–324]. Таким образом, русская литература развивается в той же парадигме, что и становящаяся русская философия.
В 1830-е годы Пушкина особенно интересует русская история и культура XVIII века. Он публикует в «Современнике» статьи о Фонвизине и о Российской академии, где пересматривает свои прежние взгляды и проявляет особый интерес к личности Петра I и его роли в русской истории. В подходе к узловым проблемам истории этой эпохи Пушкин «по-своему следует тем же путем, на который позднее
станут славянофилы» [17]. Как верно отмечает в этой связи Н. А. Бердяев: «Славянофильскому самосознанию предшествовало явление Пушкина – русского национального гения. Но Пушкин был великим явлением национального бытия, а не национального самосознания. Через Пушкина, после Пушкина могло лишь начаться идеологическое самосознание» [3: 7].
Известно, что старшие славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков и др.), перерабатывая культурное наследие романтизма, метафизику личности «осмысливали через призму соборности, через духовное общение личности с полнотой всей Церкви». Роль национального самосознания в формировании личности они видели в становлении духовного мира человека через сохранение самобытности русской цивилизации. Личность только тогда может быть полноценной, когда она укоренена в национальную «почву». В свою очередь, в общечеловеческих ценностях, то есть в некоем «общем законе человечества», они усматривали только абстракцию. Отказываться от своего собственного национального развития, отмечал славянофил К. С. Аксаков,– это бесплодно и непозволительно. Аксаков считал, что «дело человечества совершается народностями, которые не только от этого не исчезают и не теряются, но, проникаясь общим содержанием, возвышаются и светлеют, и оправдываются как народности» [2, с. 308]. И здесь Аксаков обращается за образами к мировой художественной литературе: «Тогда только и является произведение литературы или другое какое-либо общечеловеческим, когда оно в то же время совершенно народно. “Илиада” Гомера есть достояние всемирное и в то же время есть явление чисто греческое» [2, с. 310]. Общечеловеческое, по его мнению, действительно имеется только лишь в национальных конфигурациях и только в них может творчески формироваться. Он пишет: «Чтобы понять общечеловеческое, нужно быть собою, иметь свое мнение, мыслить самому… Только самостоятельные умы служат великому делу человеческой мысли» [2, с. 316–325].
Если западники, концентрируясь на социальных факторах, подчеркивали зависимость человека от внешних условий и обстоятельств жизни, вписанных во всемирно-исторический контекст, то их оппоненты, славянофилы, занимались проблемами имманентного существования человека как особенной внутренней действительности, имеющей собственные законы, никак не соизмеряемые с законами общества. Именно потому, что эти законы не связаны ни с обществом, ни с природой, а имеют своим основанием Божественное бытие, мы здесь имеем дело с метафизическими законами и метафизикой личности. И метафизика личности в русском славянофильстве отличается от метафизики в западной философской мысли. Метафизика личности у И. В. Киреевского отличается от рациональной метафизики Х. Вольфа даже там, где у того в рациональной психологии речь идет о человеческой душе.
Двойственность и диссонансный характер русской философской мысли выражается в том, что славянофилам не чужды идеи просвещения, и они используют некоторые метафизические приемы в духе западной философии, но вместе с тем они же критикуют западную культуру и философию за чрезмерное заражение рационализмом. Старшие славянофилы отмечают, что для постижения сущности бытия и самой личности недостаточно логического мышления. Решение метафизических задач сближения и воссоединения с Богом требует преодоления узости и частичности рационального мышления, на что способна только «цельная» личность.
Западному рационализму славянофилы противопоставляют идеи романтиков, Шеллинга, Шлейермахера. Но более последовательную линию в метафизике личности они связывают с традициями православия. Продолжая святоотеческие традиции, они характеризуют сущность человека через соработничество с Богом, как это делали Нил Сорский, Григорий Сковорода и др.
Итак, славянофилы исходят из положения, что философия – не система отвлеченного мудрствования, а открытое человекосозидающее знание, которое должно быть направлено на реальное совершенствование человека и общественной жизни. Понимая глубинную связь с западной культурой и философией Германии, они осознавали различие этих двух типов философствования. Славянофилы обращались к поиску первопричин, породивших различия в понимании личности между собой и своими оппонентами. И они находили эти причины не только в рационализме, но и в западной парадигме индивидуализма, которая обнаруживала свои пороки уже в начале XIX века. С их точки зрения, духовные ценности западных стран, с их рационализмом и индивидуализмом, социальной разобщенностью и договорными отношениями, ведут к неизбежному духовному кризису и распаду.
Если для западного человека и, соответственно, западной философии ведущим является идеал индивидуальной самореализации, предельного раскрытия своих личных талантов, то восточный идеал человека основан на преодолении индивидуализма как ограниченности на пути к единению человека с Богом. Если на Западе, утверждал И. В. Киреевский, отношения между людьми были формализованы, жизнь регламентировалась общественным договором, то в России «человек принадлежал миру, мир ‒ сходке, сходка ‒ вече и т.д., покуда все частные круги смыкались в одной черте, в одной православной Церкви» [8, с. 221]. В этом единстве личности с православной церковью славянофилы видели противоядие от западного индивидуализма, и здесь нужно искать метафизические основания идеи личности в русском славянофильстве.
Список литературы Метафизика личности в философско-антропологических воззрениях славянофильства
- Авдеев О.К. Проблема личности в русском консерватизме: Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев, П.Е. Астафьев: дис.. канд. филос. н.: Москва, 2011. 165 с.
- Аксаков К.С. Сочинения. Т. 1. М., 1861. 903 с.
- Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / вступ. статья, послеслов., примеч. и комм. Л.Е. Шапошникова. Москва: Высшая школа, 2005. 239 с.
- Виноградов В.В. История слов. Москва: Российская академия наук, 1999. 1138 с.
- Вольский Н.Н. Лингвистическая антропология. Введение в науки о человеке: Курс лекций. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2004. 238 с.