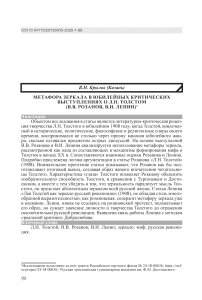Метафора зеркала в юбилейных критических выступлениях о Л. Н. Толстом (В. В. Розанов, В. И. Ленин)
Автор: Крылов В.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования в статье является литературно критическая рецепция творчества Л.Н. Толстого в юбилейном 1908 году, когда Толстой, вовлеченный в исторические, политические, философские и религиозные споры своего времени, воспринимался не столько через призму канонов юбилейного жанра, сколько оставался предметом острых дискуссий. На основе выступлений В.В. Розанова и В.И. Ленина анализируется использование метафоры зеркала, рассмотренной как одна из составляющих в механизме формирования мифа о Толстом в начале XX в. Сопоставляются взаимные оценки Розанова и Ленина. Подробно прослежена логика аргументации в статье Розанова «Л.Н. Толстой» (1908). Внимательное прочтение статьи показывает, что Розанов как бы подготавливает итоговый вывод, создавая образ живого впечатления читательницы Толстого. Характеристика «глаза» Толстого позволяет Розанову объяснить изобразительную способность Толстого, в сравнении с Тургеневым и Достоевским, а вместе с тем убедить в том, что зеркальность парализует мысль Толстого, он предстает абсолютным зеркалом всей русской жизни. Статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908), не обладая столь многообразной выразительностью, как розановская, содержит метафору зеркала уже в названии. Ленин, никак не ссылаясь на розановский претекст, подхватывает его образ, но сужает значение личности и творчества Толстого до отражения исключительно русской революции. Выявлена связь работы Ленина с методом «реальной критики» Добролюбова.
Л.н. толстой, в.в. розанов, в.и. ленин, зеркало, миф, русская революция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147799
IDR: 149147799 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-98
Текст научной статьи Метафора зеркала в юбилейных критических выступлениях о Л. Н. Толстом (В. В. Розанов, В. И. Ленин)
-
L.N. Tolstoy; V.V. Rozanov; V.I. Lenin; mirror; myth; russian revolution.
В современных исследованиях толстовского мифа отмечается, что
…толстовский текст, основанный на персоническом мифе о Л.Н. Толстом, является именным сверхтекстом наряду с пушкинским, лермонтовским, гоголевским и другими именными текстами русской литературы <…> Русский писатель выступает культурным героем по аналогии с героями архаичной мифологии, призванными в мир в конкретный момент, когда миру необходимо спасение, стремящимися восстановить гармонию, уравнять хаос и порядок. Так воспринимали Толстого многие его современники и представители последующих поколений, интерпретируя мифологемы, создающие образ яснополянского гения [Курьянова, Сегал 2021, 222].
Авторы одного из современных исследований, анализируя лев-толстов-ский миф, играющий важную роль в национальной культуре, выделяют шесть мифологем, представленных в виде стереотипных образов, существующих в массовом сознании:
-
1) Лев Толстой – знаменитый русский писатель: мастер художественного слова vs создатель громоздких и трудновоспри-нимаемых текстов; 2) Лев Толстой – «властитель дум»: великий учитель жизни vs возмутитель спокойствия, посягнувший на общепринятые ценности; 3) религиозный реформатор: яснополянский старец vs «пророк без чести»; 4) опростившийся аристократ: дворянин, утонченная натура vs человек, стремящийся внешне и внутренне соответствовать образу простого человека, крестьянина; 5) пример для подражания: нравственный ориентир vs безнравственный ориентир; 6) личность, оцениваемая обществом относительно соответствия современным жизненным установкам: зачинатель многих модных течений vs традиционалист [Абрамова, Архангельская 2022, 5].
Миф о Толстом появляется уже при жизни Толстого. Обратимся только к одной составляющей в механизме формирования этого мифа, появившихся в год 80-летнего юбилея писателя, – образу зеркала.
Зеркало, как известно, представляет собой один из распространенных символов в культуре, поливалентный и противоречивый, отражающий многообразие мира, символ воображения или сознания, способного фиксировать предметы, отражая истину. Но свойство зеркала отражать может восприниматься «как способность не воспроизводить в точности, но вскрывать, обнаруживать нечто, что становится характерным проявлением определенных и все более очевидных процессов, тенденций, свойств, способностей» [Селиверстова 2018, 389]. В семиотических исследованиях подчеркивается, что «отражение может служить моделью творчества – реалистического, или же сознательно или бессознательно деформирующего действительность (кривое зеркало)» [Левин 1988, 8].
В конце XIX – начале XX в. в русской литературе, критике и публицистике эта модель довольно часто используется. Так, с образом зеркала, многогранно представленным в творчестве О. Уайльда, в том числе и в эссе «Критик как художник», соотносятся и суждения И.Ф. Анненского о специфике своего подхода к литературному творчеству. Приглашая читателя в мир своих «отражений», Анненский объясняет в предисловии смысл заглавия всей книги. Для Анненского критик продолжает творчество поэта и осуществляет это не извне, а с личной, глубоко субъективной заинтересованной точки зрения:
Я же писал здесь только о том, что мною владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою. Вот в каком смысле мои очерки – отражения, это вовсе не метафора… самое чтение поэта есть уже творчество. Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих вод [Анненский 1979, 5].
Как видно, зеркало выступает у Анненского воплощением активной критической мысли. В этой связи уместно упомянуть известную текстуальную перекличку предисловий Уайльда к «Портрету Дориана Грея» («В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.
Если произведение искусства вызывает споры, – значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное» [Уайльд 2003, 24]) и предисловия Ф. Сологуба ко второму изданию романа «Мелкий бес» («Нет, мои милые современники, это о вас я писал свой роман о Мелком бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ар-далионе и Варваре Передоновых, Павле Володине, Дарье, Людмиле и Валерии Рутиловых, Александре Пыльникове и других. О вас. Этот роман – зеркало, сделанное искусно» [Сологуб 2004, 6]).
Зеркалу уделял особое внимание В.В. Розанов (см. об этом: Николюкин 2008]). В статье «О древнеегипетской красоте» он говорит о «жестокосердии» того человека, который был изобретателем зеркала:
Мы не все равно прекрасны – вот мучительная истина, которую темный гений этого изобретателя въязвил в душу человека, заразил ею душу человека, отравил ею душу человека. Сколько несчастия произошло от этого! И как померк образ человека: по нему разлилась зависть или – злобное торжество [Розанов 1899, 105].
Розанов надеялся, что «в будущем веке» не будет этого «пустого и ничтожного» изобретения [Розанов 1899, 105].
Однако именно через образ зеркала Розанов дал характеристику Л. Толстого в юбилейной статье «Л.Н. Толстой» (1908). Но здесь нам придется вернуться в советскую эпоху, когда для подавляющего большинства читателей старшего поколения образ зеркала применительно к Толстому был связан не с розановской статьей, а с известной работой В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908). Даже более того, как отмечается в современном исследовании:
По данной модели образованы заголовки иных публицистических материалов: «Андрей Платонов как зеркало русской геоморфологии» [Дм. Замятин. Экономическая география «Лолиты» // «Октябрь», 2003]; Сергей Константинов «Ленин как зеркало русской интеллигенции [портал «Rubiteka»; ]; Е. Кашкарова. «Женская тема в прозе 60-х годов: Наталья Баранская как зеркало русского феминизма» [портал «Образ женщины в культуре»; ]; Ю.И. Малецкий «Роман Улицкой как зеркало русской интеллигенции» [Образовательный портал «Слово». Филология; ] и т.д.» [Селиверстова 2018, 388] (добавим от себя и название статьи о «Вехах», напрямую перекликающееся с ленинским, – «“Вехи“ как зеркало русской революции» Ю. Пивоварова («Литературное обозрение», 1990, № 10)).
Такое «возвращение» ленинской метафоры не случайно, ведь в советскую эпоху изучение статьи Ленина было обязательным для школьников, студентов-филологов.
Но Ленин все же не был первым, кто использовал эту метафору применительно к Толстому. Приоритет – за Розановым. Однако отметим прежде, как Розанов относился к Толстому и каковы были взаимные оценки Розанова и Ленина.
В воспоминаниях Э.Ф. Голлербаха запечатлена выразительная картина:
Осенью 1918 г., бродя по Москве с С.Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно». Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков – Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я – монархист Розанов». С.Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрашивал его замолчать, но тщетно [Голлер-бах 1998, 92].
По сведениям А.Н. Николюкина, приведенным в Розановской энциклопедии, Ленин 8 раз упоминает Розанова в негативном контексте. Для него популярный и гораздо более тогда известный публицист и критик самой читаемой русской газеты «Новое время» всегда находился в числе реакционных фигур, пытавшихся отказаться от наследства 60–70-х гг. XIX в. В статье «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин писал:
Г-н Михайловский заявляет не только то, что эти люди (ученики) «не желают состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и решительно отказываются от наследства», но к тому же еще, что «они» (наряду с другими лицами самых различных направлений, до г. Абрамова, г. Волынского, г. Розанова включительно) «накидываются на наследство с чрезвычайною злобностью» [Ленин, 1958–1965, II, 543].
Еще более резка его оценка сборника «Вехи» в статье «О “Вехах”»: «“Вехи” – сплошной поток реакционных помоев, вылитых на демократию. Понятно, что публицисты “Нового Времени”, Розанов, Меньшиков и А. Столыпин, бросились целовать “Вехи”» [Ленин, 1958–1965, II, 173].
В подобной эмоциональной тональности, но более выразительно писал и Розанов о Ленине в статье «К положению момента» (1917):
Он [Ленин – К.В. ] был рассчитан на самые темные низы, на последнюю обывательскую безграмотность. И он ее смутил и поднял. Ленин отрицает Россию. Он не только отрицает русскую республику, но и самую Россию. И народа он не признает. А признает одни классы и сословия, и сманивает всех русских людей возвратиться просто к своим сословным интересам, выгодам. Народа он не видит и не хочет [Розанов 1994, 404].
Розанов, при всей противоположности Толстому как художнику и мыслителю признает огромную роль Толстого в истории русской литературы и масштабность его фигуры. Юбилейную статью «Л.Н. Толстой» («Новое время», 1908. 28 августа. № 11660) Розанов начинает с применения своего излюбленного приема – с картины живого впечатления девушки 24 лет «с сверкающими глазами и счастливым лицом» [Розанов 1995, 299] от чтения «Войны и мира». Используя разнообразные вкрапления «чужого слова», личную интонацию, парадоксальность, но главное – следуя импрессионистской манере передачи впечатления – он подчеркивает, что глаза ее сверкали, горели радостью. Для
Розанова « в живом впечатлении выражается вся суть литературы и вся ее значительность» [Розанов 1995, 300]. Впечатления от Толстого переданы через образ луча солнца в капле воды: «…тут его образ горит, как горит луч солнца в капле воды, его воспринявшей» [Розанов 1995, 300].
Поскольку отражательная способность зеркала порождает символические аналогии с глазом (на способность зеркала «видеть» указывает М. Фа-смер в «Этимологическом словаре русского языка»: связи с семантикой глагола ‘смотреть’; ср.: зреть, зоркий, зрачок, чеш. zrcadlo (‘зеркало’), zrak ‘зрение’, диал. зеркать и зыркать; см. ссылку на него [Селиверстова 2018, 389]) и водой, то можно заключить, что Розанов как бы подготавливает итоговый метафорический вывод. Пока же для него важно сказать: «Это впечатление, это горение необыкновенно ярко и счастливо. Так сказала девушка, и я хочу полно сохранить вырвавшееся у нее восклицание, находя, что это очень верно передает действительность» [Розанов 1995, 300]. В этом случае реализуется одно из основных значений зеркала как «объекта, создающего точное (в определенных отношениях) воспроизведение (копию) видимого облика любого предмета (оригинала) и его движения, если этот оригинал находится в определенных пространственных отношениях с зеркалом (грубо говоря, «перед» зеркалом) и с глазом наблюдателя» [Левин 1988, 8].
Для Розанова вместе с тем «моральное учение» Толстого безмерно ниже его художественного творчества. Он передает это таким сравнением:
…как его художество родит во мне солнце и ветер, сушит мою душу, освежает ее, поднимает ее: так после чтения моральных его трактатов душа моя тяжелеет, сыреет, точно набирается дым во все ее щелки, и я почти с плачем говорю: «Ничего не могу. Не только подвигов, вот чего хочет Толстой, но и вообще ничего. Я устал. Устал от чтения» [Розанов 1995, 301].
Этот «поворот» в статье, естественный для Розанова, все же явно не подходил для юбилейного жанра (для юбилейной статьи в конце XIX – начале XX в. характерна тенденция отхода от традиционных «канонов» жанра, в то же время юбилейная статья не исключала и «негативных» интонаций по отношению к личности и творчеству юбиляра), но Розанов его продолжает: «Всякая мораль есть оседлывание человека» [Розанов 1995, 301].
Но все же оставляя в стороне рассуждение о морали, Розанов вновь возвращается к образу толстовского луча, заявленного в начале статьи: «Возвращаюсь к счастью и яркости толстовского луча, который горит в нас» [Розанов 1995, 302]. Отвечая на вопрос «От чего это зависит?», Розанов подробно, прибегая к сравнениям с другими русскими писателями (Толстой – Тургенев, Толстой – Достоевский), характеризует «глаз» Толстого:
Я думаю, главное, что дано Толстому, – это хороший глаз. Хороший глаз, дополнивший богатую душу. Тургенев где-то описывает, как Фет-Шеншин ел землянику со сливками: «у него ноздри раздулись от наслаждения». Значит, хорошо была развита обонятельная и вкусовая сторона у человека; наименее думающая сторона, из которой наименьше можно чему-нибудь выучиться. Напротив, глаз нас вечно учит; глаз – вечное поучение. Конечно, если он хорош. Хорош не в оптическом отношении, а вот в каком-то умном. Есть умный глаз, есть думающий глаз. Мне кажется, художество Толстого в большой доле объясняется чудным глазом, каким он одарен был от природы [Розанов 1995, 302].
Метафора «глаза» позволяет и объяснить поразительную изобразительную способность Толстого:
Предметы живут в нем, как хотят, как «сами»: Толстой точно не может сделать ничего в отношении их; здесь природа глаза, просто как оптического органа, владычествует своею частичною психикою над общею психикою его как мыслителя и человека. Я хочу сказать, что каждый наш орган имеет маленькую свою «душку», – независимую от общей большой души человека, не абсолютно подчиненную ей, а иногда даже обратно подчиняющую себе эту большую душу. «Душка» глаза у Толстого настолько талантлива и сильна, что когда он смотрит на предмет, – то качества глаза, зеркальность, отражаемость , подчиняют и парализуют мысль Толстого, чувство Толстого [Розанов 1995, 302] (курсив наш – В.К. ).
Если Достоевский «художественно активный писатель», «верно и реально в каждом выведенном лице или положении только одна точка, всего только одна, правда, – главная; все прочее – фантазия, жизнь души самого Достоевского», то Толстой «активен как мыслитель», но «как художник – он страшно пассивен: он именно – зеркало, в котором предметы отражаются “сами” и “как они хотят”. От этого судьба героев и вообще “что они делают” у него не только правдоподобны, но и вообще верны, “как бывает”» [Розанов 1995, 303]. Из контекста рассуждений Розанова понятно, что для него Толстой – это «абсолютное» зеркало всей русской жизни:
Вот радость и счастье и поучительность чтения Толстого и вытекает из того, что, читая его, мы испытываем впечатление знакомства с настоящей реальной жизнью. Не выходя из комнаты, не вставая с кресла, мы не только видим, но и как бы соучаствуем жизни далеких людей, частью – давно отживших, – людей интереснейшего склада души и с замечательною личною судьбою [Розанов 1995, 303].
Через две недели в Женеве в большевистской газете «Пролетарий» (11(24) сентября, № 35. с. 1, без подписи) появилась статья В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Не обладающая столь выразительным стилистическим многообразием, как статья Розанова, она содержит образ зеркала уже в «сильной позиции» текста – в заглавии. Ленин, не ссылаясь на источник, подхватывает розановский образ, переворачивает его, сужая всеохватность значения розановской характеристики до сведения личности и творчества Толстого к отражению исключительно русской революции. В самом начале статьи ставится вопрос:
Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно? [Ленин, 1958–1965, XVII, 206].
Однако в духе добролюбовского метода «реальной критики», предполагающего, что независимо от субъективных намерений художника, в художественном произведении может «сказаться» жизненная правда (примерно схожим образом обосновывал Добролюбов свой подход к творчеству Островского), Ленин признает правомочность такого сравнения:
Но наша революция – явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях [Ленин, 1958–1965, XVII, 206].
Не называя никого конкретно из писавших о Толстом в юбилейные дни, Ленин в целом всю легальную прессу называет казенной, лицемерной, упоминая о «кадетских балалайкиных из “Речи”». Если Розанов в большей мере использовал метафору зеркала для обозначения поразительной художественной прозорливости Толстого, то под пером Ленина «зеркало» применяется исключительно к позиции позднего Толстого, Толстого-публициста, проповедника, религиозного философа, чтобы представить читателю социально-общественную интерпретацию Толстого и его связь с различными общественными группами:
Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки, зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции <…>. Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, – и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании [Ленин 1958–1965, XVII, 210–211].
Нельзя сказать, что ленинский подход не имел никакого отношения к Толстому. По мысли современного исследователя марксистской критики М.В. Михайловой, Ленин «сумел выявить особенности творческой психики Толстого, соединив ее с существовавшими в то время крестьянскими настроениями» [Михайлова 2017, 346].
Сложным и неоднозначным, с точки зрения современного толстоведения, предстает и так называемая революционность Толстого. В статье А.В. Гулина «Лев Толстой как певец Российской Империи» прослеживается преобразова- ние в творчестве Л.Н. Толстого субъективно антигосударственных устремлений писателя в художественные образы, прославляющие Российскую империю. В этой связи снова вспоминается и ленинская работа:
Несмотря на то, что статью отличают узко-сектантская логика и злободневный политический интерес, трудно понятные уже и в советскую эпоху, ее название дошло до наших дней в качестве общеизвестного определения. Впрочем, ленинская формула «зеркало русской революции» чаще всего наполняется сегодня иными смыслами и выглядит явно недостаточной для определения роли Толстого в национальной истории революционной поры. Непреложный факт: Толстой не только «зеркало», он – одна из главных движущих сил русской революции XX столетия на ее подготовительном этапе. По степени влияния на умы современников и потомков Толстой – едва ли не первый среди многочисленных разрушителей Российской империи. Нарастающая в образованном обществе и в народной среде самоубийственная жажда катастрофы получила в нем беспримерного своего выразителя [Гулин 2022, 21].
Однако, что особенно важно, «имперские прозрения и революционные парадоксы в творческом мире Толстого не существуют по отдельности. Они образуют нерасторжимое единство, где парадокс – это всегда необходимое условие прозрения, его инструмент, его движущая сила» [Гулин 2022, 28]. Выступая критиком цивилизации, Толстой, «с тем большей силой прославлял плоды Российской империи, не узнавая их подлинный источник и даже занимаясь всегда обреченным вольным или невольным его отторжением» [Гулин 2022, 30].
В культурном мифе о Толстом, представленном в диалоге Ленин – Розанов, как видим, образ зеркала сыграл важную роль, позволив его участникам определить характер творческого процесса Толстого, абсолютный характер его реализма и поставить вопрос об отношении Толстого к революции и общественной жизни России начала XX в.