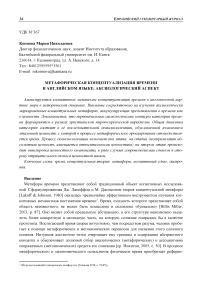Метафорическая концептуализация времени в английском языке: аксиологический аспект
Автор: Коннова Мария Николаевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Анализируются когнитивные механизмы концептуализации времени в англоязычной картине мира в исторической динамике. Внимание сосредоточено на изучении аксиологически маркированных концептуальных метафорах, аккумулирующих представления о времени как о ценности. Доказывается, что первоначальные аксиологические контуры категории времени формируются в рамках христианской мировоззренческой парадигмы. Общая динамика категории состоит в её последовательной деаксиологизации, обусловленной изменением эталонной ценности, с которой в процессе метафорического проецирования отождествляется время. Процесс деаксиологизации включает два этапа: на стадии десакрализации абсолютная ценность замещается относительными ценностями; на втором этапе происходит нивелировка ценностного компонента, в ряде случаев сопровождаемая сдвигом в сторону отрицательного полюса ценностной шкалы.
Время, концептуальная теория метафоры, когнитивный сдвиг, диахрония
Короткий адрес: https://sciup.org/147229827
IDR: 147229827 | УДК: 81'367
Текст научной статьи Метафорическая концептуализация времени в английском языке: аксиологический аспект
Метафоры времени представляют собой традиционный объект когнитивных исследований. Сформулированная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном теория концептуальной метафоры [Lakoff & Johnson, 1980] оказалась чрезвычайно эффективным инструментом изучения когнитивных механизмов постижения времени1. Время, сущность которого представляет собой область неизвестного, не может быть осмыслено и ословлено «буквально» [Hillis Miller, 2003, р. 87]. Оно являет собой предельную абстракцию; в его структуре невозможно выделить более конкретную и наглядную часть, на которую сознание опиралось бы в качестве прототипа. Постигающий время скорее интуитивно, чем посредством разума, человек прибегает к помощи метафорических и метонимических переносов для уяснения этого сложного понятия. Интуиция достаточно четко очерчивает ему границы и содержание абстрактного концепта и обеспечивает должный отбор аналогических (метафорических) и ассоциативно сопряженных (метонимических) средств его описания [ср. Никитин, 2005, с. 50]. В процессе метафорического и метонимического осмысления физическое время приобретает референ- циальные и фактуальные свойства, превращаясь из независимой от воли субъекта постоянной величины в параметр измерения явлений и событий [Рябцева, 1997, с. 78-79].
Предметом преобладающего большинства исследований как в отечественной, так и зарубежной лингвистике являются пространственные основания концептуализации и вербализации времени [см., в частности: Bonato et al. 2012; Boroditsky, 2018; Casasanto, 2016; Evans, 2004; Ozcaliskan, 2015; Pagan Canovas, Jensen, 2013; Traugott, 1975]. Значительно в меньшей степени изучен аксиологический потенциал темпоральных метафор. Среди требующих решения вопросов — проблема дифференциации различных типов ценностей, с которыми время соотносится в ходе метафорической проекции, выявление магистрального вектора изменений ценностных представлений о времени, а также установление их экстралингвистиче-ских причин. Данная лакуна определяет проблемное поле настоящего исследования, цель которого — анализ когнитивных механизмов аксиологической концептуализации времени. Исследование проводится на материале английского языка. Эмпирический материал, привлекаемый в процессе работы (лексикографические, корпусные, текстовые данные), охватывает основные периоды развития английского языка — от древнеанглийского и среднеанглийского до современного английского языка.
Основная часть
Метафоры, передающие посредством наглядных образов сложные смыслы, принадлежат к ряду ключевых способов концептуализации времени. От обширного класса метафорически интерпретируемых понятий время отличается тем, что метафоры — это едва ли не единственный способ описать его значение, поскольку в обыденной картине мира для него не существует естественного таксономического класса [Плунгян, 1997, с. 160].
Метафорическое осмысление времени в категориях конкретных областей является следствием фундаментального для естественного языка процесса опредмечивания мира [Malotki, 1983]. В основе метафорической концептуализации времени лежит аналогия; благодаря аналогии метафора становится средством формирования пароморфной модели, в рамках которой система временных отношений и признаков представляется с помощью системы, принадлежащей к иной сфере опыта, где осмысляемый элемент представлен более очевидно [ср. Гак, 1998, с. 13]. Представления, основанные на двигательном опыте и отражающие восприятие физического мира посредством органов чувств, перерабатываются в сознании таким образом, чтобы облегчить процесс когнитивного структурирования абстрактных областей [Casasanto, Boroditsky, 2008, р. 580]. Время, осмысляемое посредством метафор, предстает относительной, рационально познаваемой категорией. Сопоставляемое с однопорядковыми сущностями (материей, пространством, движением), оно опредмечивается и вписывается в объективную картину мира, объединяя отдельные её фрагменты в целостный и законченный образ [Рябцева, 1997, с. 79]. Метафора, служащая для осмысления атрибутивных характеристик времени, представляет собой не столько однородную, унифицированную модель, сколько спектр разнообразных возможностей, структурированный по нескольким функциональным осям [Sobolev, 2009, р. 904].
В когнитивных исследованиях метафора традиционно понимается как концептуальный феномена, как способ концептуализации абстрактной или незнакомой сферы сквозь призму конкретной или интуитивно понятной сферы. Метафоризируемый предмет или событие представляет собой концептуальную область цели, тогда как концепты, используемые для его осмысления, относятся к области источника; цель и источник принадлежат либо к различным таксономическим доменам и не связаны прагматической функцией, либо принадлежат к различным функциональным доменам. Метафора представляет собой системное межфреймовое проецирование (frame-to-frame mapping в терминологии Дж. Лакоффа), в процессе которого структура концептуальной области источника накладывается на структуру области цели. Процедуру метафорического переноса Дж. Лакофф и М. Тёрнер представляют следующим образом: 1) слоты источникового домена (фрейма) проецируются на слоты целевого домена; 2) отношения, характерные для домена источника, проецируются на отношения в области цели; 3) качества из домена источника проецируются на качества в области цели; 4) энциклопедические (фоновые) знания о домене источника, а также свойственные ей инфе-рентные модели (inference patterns) проецируются на знания об области цели [Lakoff, Turner, 1989, р. 63-64].
Схематически представляемые в виде пропозиций, концептуальные метафоры указывают на существование в сознании носителей языка набора устойчивых, основанных на реальном опыте ассоциаций между сопрягаемыми областями [Boers, 1996, р. 25]. Результаты нейролингвистических исследований позволяют предположить наличие у человека сложных когнитивных систем, в которых характер концептуального метафорического переноса, наир., между областями пространства и времени, может быть вычислен посредством нейронных карт (neural maps). Это своеобразные нейронные сети (circuits), связывающие сенсомоторную систему с более высокими областями коры головного мозга. Метафорические проекции представляют собой подобного рода нейронные карты, соотносящие сенсомоторную информацию и абстрактные идеи в рамках слаженных нейронных совокупностей (neural ensembles), существующих в разных областях головного мозга [Tendahl, Gibbs, 2008, р. 829].
Основанием сложных структурных метафор выступают традиционные для языкового сообщества культурные модели, иерархические системы ценностей, норм и представлений, вследствие чего структурные метафоры в значительной мере национально специфичны [Lakoff, Johnson, 1999, р. 60; Boers, 2003, р. 23 3]. Как следствие, использование языковых метафор, эксплицирующих ту или иную концептуальную схему, не имеет характера универсальной лингвистической или когнитивной способности, но представляет собой культурно-обусловленный процесс, отражающий языковые практики, свойственные данному языковому сообществу [Wearing, 2009, р. 1027].
Концептуальные метафоры, являющиеся неотъемлемой частью знаний о мире, активируются в процессе понимания языковых метафор. Концептуальные метафоры, представляющие собой своего рода аксиомы и общеизвестные правила вывода, имеют существенное значение для правильной интерпретации контекста, что, в свою очередь, облегчает процесс инферен-ции метафорических значений из конкретных высказываний в дискурсе. Совокупность базовых концептуальных метафор, являющих собой часть контекста, можно рассматривать как интегральную часть когнитивной среды (cognitive environment). С опорой на высказывание и когнитивный контекст происходит извлечение как буквального, эксплицитного значения, так и конвенциональных и неконвенциональных импликатур, несущих коммуникативное значение [Tendahl, Gibbs, 2008, р. 1840, 1845]. Наличие общей концептуальной схемы способствует верной интерпретации всего многообразия основанных на ней языковых выражений, в том числе и окказиональных образований, выступающих расширением конвенциональной модели [Thibodeau, Durgin, 2008, р. 533]. При этом ведущее значение для адекватной интерпретации метафоры имеют предшествующие знания, представленные в виде фрейма, определяющего внеязыковые контекстуальные ожидания метафоры. Именно экстралингвистические знания, в частности, понимание национально-культурного элемента семантики метафор, обусловливают невозможность буквального понимания метафорических выражений [Банин, 1995, с. 63; Сукаленко, 1991, с. 5].
Метафорические модели относятся к числу ведущих средств ценностной интерпретации действительности. Реализуемые посредством метафор оценочные значения связаны с нормами бытия и поведения человека и могут быть квалифицированы как значимый фрагмент ценностной картины мира, специфической для данного языкового коллектива. Культурная маркированность метафоры, её способность выражать мировидение проистекают из связи образного основания метафоры с категориями культуры — символами, стереотипами, прото-тотипическими ситуациями [Опарина, 1999, с. 38]. Темпоральные метафоры способны отображать аксиологические смыслы, вытекающие из культурного контекста, в рамках которого длительное время происходило формирование особенностей национальной концептосферы. В аксиологических концептуальных метафорах проявляется ключевое качество временной координаты мира — её ценностный, креативный характер: в физическом мире она дает количественную оценку происходящему, в метафизическом — качественную и относительную, в обыденном — психологическую, в духовном — бытийную [Рябцева, 1997, с. 82].
Время как дар: христианское восприятие времени
Ценностные контуры категории «время» в картине мира носителей английского языка содержательно оформляются под влиянием христианства [Wendorff, 1985; Чупрына, 2000; Коннова, 2007, 2018; Нильсен, 2015], проникновение которого в глубины народного бытия сформировало национальное мировидение, оказав решающее влияние на выбор исторических путей развития англоязычной культуры [ср. Ensor, 1936, р. 137]. Христианизация Британии в V-VIII вв. приводит к постепенному формированию совершенно нового, ранее не существовавшего в языческой англосаксонской парадигме, образа времени. Время утрачивает «свою божественность, становясь произведением Бога для нужд человека» [Чупрына, 2000, с. 40]. Осмысление времени получает свое когнитивное оформление в форме темпорального концепта, структурируемого метафорической проекцией TIME IS GOD'S CREATION. В данном концепте источником аналогии для концептуализации времени становится понятийная область «Творение». Реализации метафоры TIME IS GOD'S CREATURE, глубоко синкретичные по форме и содержанию, построенные по законам логики древней, не отделяющей «конкретного от абстрактного, образа от идеи, символа от символизируемой реальности» [Лосский, 2004, с. 404], встречаются в творениях древнеанглийских авторов Беды Достопочтенного, Эльфрика, Алкуина. Так, в созданном королем Альфредом переводе произведения Аврелия Августина «Обращение к Творцу» данная метафора лежит в основе в описании времен года:
-
(1) “Du recst gear and redst perh gewrixle para feower tyda, |эж! is lencten and summer and herfest and winter/ Ты управляешь годом и устанавливаешь порядок четырех времен, что есть весна, лето, осень и зима” (Sol. Aug. 53) [Oxford English Dictionary],
Онтологический темпоральный концепт, структурируемый метафорой TIME IS GOD'S CREATION, ассоциативно связан с антропоцентрически ориентированным концептом, основанием которого выступает метафорическая проекция TIME IS A GIFT OF THE GOD. В проецируемом на понятийную область времени источниковом фрейме «дар» центральное положение занимает подфрейм «податель», аккумулирующий представления о Том, Кто является Единым Подателем всех благ материальных и духовных, дарующим «всему жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17: 25). В языковых реализациях названной концептуальной метафоры темпоральные лексемы выступают в качестве дополнения в группе сказуемого, выраженного глаголом семантики дарения (to grant, to give, to spare). Cp.:
-
(2) God be oure gyde, and then schull we spede... God seend vs a ffayre day\ / Господь да будет нашим наставником, и тогда преуспеем.. Господь да пошлет нам благополучный день (1450 God be oure 1, 6) [Middle English Dictionary],
Время осмысляется как драгоценное достояние, как «залог», полученный в пользование. Опасение утратить данное «в распоряжение» время способствует выдвижению в фокус внимания носителей языка идеи «напрасной траты» времени. Для её ословливания используются языковые метафоры с синонимичными глаголами losen («лишаться, терять»), lesen («утрачивать»), wasten («тратить напрасно»), наир.:
-
(3) “Noman mai his time lore Recovere/ Никто не может свое потерянное время получить обратно” (а 1393 Gower СА 3.577) [Middle English Dictionary],
Время как ресурс: экономический образ времени
На рубеже средне- и ранненовоанглийского периодов в картине мира носителей английского языка постепенно начинает меняться система ценностей, служившая фундаментом для осмысления действительности. В коммерческой среде время начинает восприниматься как источник материального благосостояния, приобретая, наряду с трудом и деньгами, значение ключевой составляющей европейского «прогресса» [Ganslandt, 1991, р. 99; ср. Noonan, 1957; Ее Goff, 1980]. Ценностной доминантной становится утилитаризм. Человек оказывается центром ценностных отношений мира, приобретая статус «хозяина» вселенной и «распорядителя» её богатства. Изменяется и понятие о цели человеческого существования: идея устремленности к благам вечным вытесняется идеей земного, временного преуспеяния. На когнитивном уровне этот процесс сопровождается перестройкой фрейма, служившего источником для метафорического моделирования времени. Из области источника «дар» удаляется центральный концепт «податель дара», в центр фрейма выдвигается периферийный подфрейм «получатель дара», приобретающий в новом источниковом фрейме статус ключевого подфрейма «владелец». Идея «обладания», составлявшая в рамках концептуальной метафоры TIME IS A GIFT OF THE GOD ядро деятельностного подфрейма «распоряжение [даром]», становится переходным звеном в процессе образования нового темпорального концепта, когнитивной основой которого выступает метафорическая схема TIME IS A PERSONAL POSSESSION (ВРЕМЯ — ЭТО СОБСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА) [см.: Коннова, 2007, 2009]. Абстрагируясь от категории бытия, время становится «уже не только Божественным, но и личным достоянием» [Найденова, 2003, с. 93].
Возникает новая модель времени, которая может быть условно обозначена как «экономическая». В рамках «экономической» модели меняется характер эталонной ценности, в соот- несении с которой измеряется ценность времени — на место ценности абсолютной приходит ценность относительная, связанная с представлениями о материальных благах, сопутствующих человеческому существованию. Начальный этап указанного когнитивного сдвига относится к среднеанглийскому периоду. Среди возникающих в XIV в. языковых метафор присутствуют нейтрально-маркированные выражения, позволяющие уподобить время вещи или субстанции, которую можно по своему усмотрению «удерживать» (ср. выражение кереп time), «искать» и «находить» (fynden time and space), «давать» (give time) или «выигрывать» (wynne tyme). Ср.:
-
(4) We bisechej)... join help... vor to do attachie [nilke misdoeres... where & whenne [)t jon mat kepe time / Мы молим о твоей помощи, чтобы схватить таких преступников, где и когда у тебя будет время (букв, «сможешь удержать время») (1344 Anc.Pet. [PRO] SC 8-192.9580) [Middle English Dictionary],
В конце среднеанглийского периода усиливается процесс постепенного абстрагирования времени от категории бытия. Немалую роль в стимулировании этого когнитивного процесса сыграло всё более широкое распространение в XIV-XV вв. института ростовщичества, сердцевиной которого было «обращение» со временем, своеобразное «взимание платы» за время пользования заемными денежными средствами или товарами. В подобной языковой ситуации кредитору усваивается роль «распорядителя» времени, что на словесном уровне фиксируют конструкции с производными от глагола setten («устанавливать») — time settere («кредитор», букв, «установитель» времени), time settinge («продление кредита»). Ср. примеры XIV в.:
-
(5) het wors is ]эе time-zettere ontrewe, huanne he yzi3[) [)et uolk mest nyeduol / Худшим является заимодавец неправедный, когда он использует людей нуждающихся (1340 Ayenb. [Arun 57] 36/6) [Middle English Dictionary],
В этот же период в результате сужения экстенсионала лексемы time до одной только области — времени пользования заемным капиталом — становится возможным отождествление бытийной категории «время» с одним из его «экономически насыщенных» элементов — концептом «период кредитования». На языковом уровне экспликацией этого процесса становится выражение to zelle to tyme («продавать в кредит», букв, «на время»).
Отделение времени от категории бытия приводит к возникновению концепта, структурируемого образной схемой TIME IS A COMMODITY / ВРЕМЯ — ЭТО ТОВАР и аккумулирующего представления о времени как о субстанции или вещи, которые могут быть проданы. В языке этот когнитивный сдвиг эксплицируется возникающим в начале XV в. выражением sellen times, в буквальном прочтении означающем «продажу времен»:
-
(6) I seyde to ]эее [)at summe of hem lene to vsure, not for to ben iholde open vsureris, but in manye sotile wysis by her couetis [)ei sillen tymes to her nei3boris in lenynge of her good / Говорю вам, что некоторые из них дают деньги в рост, но чтобы не считали их откровенными ростовщиками, многими незаметными путями ... они продают времена своим ближним, давая в долг свое добро (al425 Orch. Syon [Hrl 3432] 291/3) [Middle English Dictionary http s: //quod. lib. umi ch. edu/m/med].
Новое, экономически ориентированное восприятие времени окончательно закрепляется в англоязычной картине мира в ранненовоанглийский период. Великие географические открытия, развитие мануфактурного производства, становление нового типа экономических отно- шений, равно как и другие социально-экономические факторы, сопровождавшие переход от эпохи Средневековья к Новому времени, оказывают непосредственное влияние на процесс категоризации темпорального опыта. Человек учится ценить время и переживает его «как нечто такое, что можно потратить, или как то, с помощью чего можно нечто приобрести» [Найденова, 2003, с. 92].
Ярким языковым свидетельством нового восприятия времени являются концепты времени, актуализируемые в произведениях У. Шекспира. Характерные для них насыщенность временными смыслами, разнообразие темпоральных маркеров, обилие хрононимов свидетельствуют о значимости временного измерения для индивидуально-авторского восприятия бытия великим драматургом, и, в целом, об обостренном восприятии времени в современную ему эпоху.
В авторской картине мира У. Шекспира одним из ключевых механизмов осмысления времени выступает концептуальная метафора TIME IS A RESOURCE / ВРЕМЯ — ЭТО РЕСУРС. Степень «рациональности» распоряжения временем при этом может варьироваться. Для эмоционально-нейтральной «констатации факта» траты времени используются сочетания с глаголами to expend («тратить»), to give («давать»), to bestow («уделять»), to grant («давать»), to share («делить»), to consume («потреблять») и их производными. Ср.:
-
(7) All is whole; / Not one word more of the consumed time [букв, ни слова более о потраченном, поглощенном времени} (“All's Well that Ends Well”, 1603; Act V, Sc. III).
Мысль о «рачительном» распоряжении временем регулярно ословливается посредством словосочетаний, включающих имена, актуализирующие идею пользы (напр., advantage, benefit, use). Образ «неправильного» использования времени-ресурса передают, наряду с возникшими еще в среднеанглийский период выражениями to waste time («тратить время даром»), to lose time («терять время»), также конструкции с глаголами to trifle away («тратить понапрасну»), to dally («терять время попусту»), to wear out («истощать»), to neglect («пренебрегать; проявлять мало заботы»). Ср.:
-
(8) Besides, you waste the treasure of your time [букв, вы тратите сокровище вашего времени} with a foolish knight (“Twelfth Night; or What You Will”, 1602; Act II, Sc. V).
В эту эпоху ключевую роль в упорядочивании темпорального пространства бытия, в рационализации использования времени начинают играть механические часы. Ср. следующее высказывание в «Двенадцатой ночи», где именно часы напоминают о бездумной трате времени — метафорически, «бранят»:
-
(9) [Clock strikes.] OLIVIA. The clock upbraids me with the waste of time [букв. Часы бранят меня за пустую трату времени} (“Twelfth Night”, 1602; Act III, Sc. I).
Характерные для ренессансного мироощущения рационализм и индивидуализм рождают драматическое осознание ограниченности возможностей человека кратким мгновением настоящего [Гурочкина, Персинина, 2007, с. 220]. Часы предстают зримым символом времени, его «овеществленным» воплощением. Эта «наглядность», предельная «осязаемость» времени лежит в основе метонимического отождествления хода механических часов с течением жизни. Ср. следующий фрагмент монолога короля в исторической драме «Король Ричард Второй», в котором человек и часы трагически меняются местами:
-
(11) I wasted time, and now doth time waste me;
For now hath time made me his numb'ring clock;
Му thoughts are minutes; and with sighs they jar
Their watches on unto mine eyes, the outward watch,
Whereto my finger, like a dial's point.
Is pointing still, in cleansing them from tears.
Now sir, the sound that tells what hour it is
Are clamorous groans which strike upon my heart,
Which is the bell. So sighs, and tears, and groans,
Show minutes, times, and hours; but my time
Runs posting on in Bolingbroke's proud joy,
While I stand fooling here, his Jack of the clock.
(“King Richard the Second”, 1596; Act V, Sc. V).
Идея «опредмечивания» темпоральной ткани бытия находит своеобразное преломление в концепте, структурируемом метафорической проекцией TIME IS A COMMODITY, в рамках которого время наделяется качествами предмета, который потенциально может быть куплен или продан. Ср. следующий фрагмент «Виндзорских насмешниц», где говорящий пытается склонить адресата к оказанию ему услуги за определенную плату и просит «обменять» время на деньги:
-
(13) Believe it, for you know it. There is money; spend it, spend it; spend more; spend all I have; only give me so much of your time in exchange of it [букв, дайте мне столько вашего времени в обмен на мои деньги, сколько ...] as to lay an amiable siege to the honesty of this Ford's wife (“The Merry Wives of Windsor”, 1601; Act II, Sc. II).
Темпоральные метафоры «монетарной» семантики в текстах У. Шекспира отличаются устойчивостью и значительным разнообразием языкового оформления. Объектные и адверби-вальные конструкции включают сочетания с такими лексемами «товарно-денежной» сферы, как to purchase («приобретать»), to buy («покупать»), to sell («продавать»), to borrow («брать взаймы»), to prize («оценивать»), [to work] on leases («[работать] взаймы»), to redeem («искупать»), Ср.:
-
(14) ... and by my soul, / If this right hand would buy two hours' life [букв. «Если бы эта правая рука могла купить два часа жизни»], / That I in all despite might rail at him (“The Third Part of King Henry the Sixth”, 1591; Act II, Sc. VI).
Концепты «экономической» сферы могут становиться основой для создания персонифицированного образа времени. Ср. следующий диалог в «Комедии ошибок», в котором время метафорически именуется «банкротом»:
-
(15) Dromio of Syracuse. No, no, the bell; ’tis time that I were gone. It was two ere I left him, and now the clock strikes one.
Adriana. The hours come back! That did I never hear.
Dromio of Syracuse. О yes. If any hour meet a sergeant, ’a turns back for very fear.
Adriana. As if Time were in debt [букв, как будто бы время было в долгу\\ < ..>
Dromio of Syracuse. Time is a very bankrupt [букв. Время — настоящий банкрот}, and owes more than he's worth to season. / Nay, he's a thief too; have you not heard men say / That Time comes stealing on by night and day? / If 'a be in debt and theft, and a sergeant in the way, / Hath he not reason to turn back an hour in a day? (“The Comedy of Errors”, 1593; Act IV, Sc. II).
Отметим, что темпоральные концепты, сформировавшиеся в рамках христианской модели времени, и структурируемые метафорами TIME IS A GIFT OF THE GOD, TIME IS GOD'S CREATION, с появлением новых концептуальных метафор и не исчезают, но продолжают существовать, участвуя в осмыслении носителями английского языка их темпорального опыта. Поэтому, несмотря на то, что в целом концепты христианской модели оттесняются на периферию, они по-прежнему сохраняют свой аналогический потенциал и присутствуют в темпоральной аксиосфере англоязычного сообщества. Как следствие, они могут быть в любой момент актуализированы. В широком контексте христианского понимания времени предельно высокое ценностное переосмысление могут получать концепты, структурируемые метафорами TIME IS A POSSESSION, TIME IS A COMMODITY, TIME IS MONEY, TIME IS A RESOURCE. Ср. контекст функционирования метафоры to sell hours (букв, «продавать часы») в Сонете 146, где лирический герой, обращаясь к своей душе, призывает её посредством скоротечных часов земной жизни ("hours of dross ') приобретать божественную вечность ^Виу terms divine”);
-
(16) Poor soul the centre of my sinful earth,
My sinful earth these rebel powers array,
Why dost thou pine within and suffer dearth
Painting thy outward walls so costly gay?
Why so large cost having so short a lease,
Dost thou upon thy fading mansion spend?
Shall worms inheritors of this excess
Eat up thy charge? is this thy body's end?
Then soul live thou upon thy servant's loss,
And let that pine to aggravate thy store;
Buy terms divine in selling hours of dross [букв. Покупай вечные сроки, продавая часы хлама];
Within be fed, without be rich no more,
So shall thou feed on death, that feeds on men,
And death once dead, there's no more dying then.
В XVII-XX bb. языковые реализации концептуальных метафор экономической модели времени становятся всё более разнообразными, детально отображая всевозможные способы «обращения» со временем как собственностью человека. В текстах XX в. среди конструкций — реализаций образной схемы TIME IS A COMMODITY намечается тенденция к буквальному прочтению темпоральных сочетаний to sell time («продавать время»), to hire time («брать время на прокат»), to rent time («сдавать время в аренду»), to purchase time («покупать, приобретать время»), to buy time («покупать время»). Ср.:
-
(17) The radio public will be swamped with addresses for every available hour from the stations willing to sell time to the candidates and their supporters (Chicago Tribune, Apr. 1932).
Время и цифровые технологии: техноцентрический образ времени
В XX в. глобальные трансформации технологического, промышленного, социального и интеллектуального характера вызывают изменения в концептуализации темпорального опыта. Возникшие в конце минувшего столетия концепты «удаленный труд» (“teleworking”), «дистанционное обучение» (“distant learning”), «мобильная занятость» (“mobile work”) вносят изменения в темпоральные и пространственные модели, структурирующие существование отдельных лиц и целых организаций [Lee & Sawyer, 2011, р. 295]. Результатом экспансии компьютерных технологий становится тот факт, что время в современном сетевом сообществе утрачивает свои онтологические свойства линейности, необратимости, измеримости [Lee, 1999, р. 53]. Ускорение экономики, сопровождаемое увеличением темпа производства и потребления всё новых и новых товаров, приводит к возникновению предпосылок для формирования новой модели времени. В ней время предстает мгновенным (“instantaneous time”) и, более того, безвременным (“timeless time”) [Castells, 2004, р. 37]. В этой утрате временем своей ценности находит свое проявление «ценностный нигилизм как признак современной эпохи» [Марьянник, 2001, с. 13]. Повсеместное внедрение настольных компьютеров, ноутбуков, а в последние годы также «смартфонов», способствует формированию нового типа времени, который именуется в зарубежной социологии сочетанием “Пипе”. Телекоммуникационные технологии и мобильная информация, лежащие в основе “iTime”, делают человека «доступным» для внешнего мира практически в любой момент времени и в любой точке пространства. В “iTime” — растяжимом, мобильном, «портативном» времени — стираются границы между личным и общественным временем, работой и досугом, между днем и ночью, временем и пространством. Время “iTime” сжато и вместе с тем бесконечно, поскольку не ограничено естественными природными циклами дня и ночи [Agger, 2011, р. 119-125]. Сетевое время телекоммуникаций порождает хроническую рассеянность и темпоральный когнитивный диссонанс, сопровождаемый постоянной нехваткой времени [Fuchs, 2014, р. 112]. Результатом становится социальная и физическая десинхронизация, под которой западные социологи понимают усугубление неспособности организаций и индивидов приспособиться к постоянному ускорению темпа функционирования общественных структур [Vostal, 2015, р. 72; Menzies, 2000, р. 76].
Проникновение в картину мира носителей английского языка новой, «компьютерной» реальности оказывает воздействие на особенности категоризации темпорального опыта. Когнитивный сдвиг в осмыслении времени эксплицирует возникшая в последней трети XX в. концептуальная метафора TIME IS A VIRTUAL ENTITY (ВРЕМЯ — ВИРТУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ). Структурируемый данной образной схемой концепт аккумулирует представления о времени как о явлении компьютерного мира.
В рамках новой техноцентрической модели формируется концепт, структурируемый метафорической проекцией ТЕМЕ IS A VIRTUAL ENTITY. Языковые реализации данного концепта, впервые возникающие в начале 1970-х гг. (ср. сочетание computer time), получают всё более широкое распространение во второй половине 1990-х из-за повсеместного распространения системы Интернет. Когнитивные признаки «синхронности», «сверхвысокой скорости» движения информационных потоков, лежащие в основании функционирования сети Интернет, закрепляются в смысловой структуре сочетаний computer time, electronic time, Internet time, cyber time, digital time, virtual time. Техноцентрическая модель, в силу своей сравнительной новизны, лишена статичности и в настоящее время всё еще продолжает оформляться как на когнитивном уровне, так и в виде словесных экспликаций. Ср. неологизмы CyberMonday («киберпонедельник»), “Hime” («мобильное время»).
Заключение
В данной статье были рассмотрены когнитивные механизмы аксиологического осмысления времени. Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, процесс концептуального оформления ценностного сегмента категории «время» в картине мира носителей английского языка обусловлен действием универсального когнитивного механизма межфреймового (метафорического) проецирования. В ходе исторического развития англоязычного сообщества в ценностном наполнении категории «время» происходят изменения, которые могут быть охарактеризованы как последовательная деаксиологизация. Процесс деаксиоло-гизации сопровождается изменением эталонной ценности в рамках источникового фрейма (домена), структура которого проецируется на целевой фрейм «время» в процессе метафорического переноса. В теоцентрической модели времени — это абсолютная ценность; в экономической модели времени — это относительные (материальные) ценности; в техноцентриче-ской модели времени аксиологический компонент элиминируется. Отметим, что в картине мира современных носителей английского языка различные аксиологические модели времени сосуществуют. Поэтому, несмотря на то, что в целом концепты христианской модели оттесняются на периферию, они по-прежнему сохраняют свой аналогический потенциал и присутствуют в темпоральной аксиосфере англоязычного сообщества и могут быть в любой момент актуализированы.
Список литературы Метафорическая концептуализация времени в английском языке: аксиологический аспект
- Банин В.А. Субстантивная метафора в процессе коммуникации (на материале английского языка). Дис. … к. филол. н. Москва, 1995. 274 с.
- Гак В.Г. Языковые преобразования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. 768 с.
- Гурочкина А.Г., Персинина А.С. Концепт «время» и его образная объективация в поэтическом идиолекте У. Шекспира // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования. Москва, Калуга: Изд-во «Эйдос», 2007. С. 215-223.
- Коннова М.Н. Концептуальная метафора времени в современном английском языке. Дис. … к. филол. н. Москва, 2007. 283 с.
- Коннова М.Н. Категоризация темпорального опыта в английском и русском языках. Дис. … д. филол. н. Москва, 2018. 505 с.