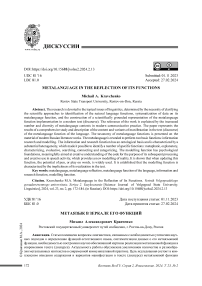Метаязык в зеркале его функций
Автор: Кравченко М.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам лингвистики, связанным с необходимостью уточнения научных подходов к определению функций естественного языка, систематизации данных о его метаязыковой функции, необходимостью построения научно обоснованной картины реализации метаязыковой функции в современном тексте (дискурсе). Актуальность работы обусловлена увеличением количества и разнообразия метаязыковых контекстов в современной коммуникативной практике. Цель исследования состоит в комплексном описании содержания и вариантов манифестации в тексте (дискурсе) метаязыковой функции языка. На материале произведений современной русской литературы представлена таксономия функций метаязыка. Выявлено, что метаязык выполняет две базовые функции: информационно-исследовательскую и моделирующую. Информационно-исследовательская имеет онтологическую основу и отличается содержательной неоднородностью, что позволило выделить ряд видовых функций: метафатическую, пояснительную, характеризующую, оценочную, поисковую, связующую и категоризирующую. Моделирующая функция имеет психологическую основу, содержательно направлена на творческое осмысление языкового кода с целью его последующей переработки и креативного использования в речевой деятельности, что обеспечивает новое моделирование действительности. Показано, что при актуализации данной функции широко задействуется потенциал языковой игры. Установлено, что моделирующая функция характеризуется имплицитностью реализации в тексте.
Метаязык, метаязыковая рефлексия, метаязыковая функция языка, информационно-исследовательская функция, моделирующая функция
Короткий адрес: https://sciup.org/149145977
IDR: 149145977 | УДК: 81’16 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.13
Текст научной статьи Метаязык в зеркале его функций
DOI:
Вопрос изучения функций языка не теряет актуальности на протяжении тысячелетий: им задавались еще античные мыслители и продолжают интересоваться современные лингвисты. Размышления о функциях языка обычно предваряют любой методологический поворот в лингвистической науке и содержат теоретические обоснования становления новых научных направлений. Так, наличие у языка когнитивной функции дало онтологические предпосылки для масштабного развития когнитивной лингвистики, на изучении проявлений кумулятивной функции базируются исследования в области лингвокультурологии, а игровая функция формирует материал для лингвистики креатива и т. д.
Необходимо отметить, что термин «функция языка» в силу своей определенной метонимичности не совсем точно описывает предмет лингвистического изучения. Точнее было бы наделять функциями только язык-деятельность (не язык-способность). В этой связи отечественные ученые указывали на целесообразность говорить не о функциях языка, а о функциях речевой деятельности в соссюров-ском понимании этого термина [Иваницкий, 2004, с. 104], а некоторые зарубежные лингвисты напрямую связывали вопросы функциональности с речевой деятельностью (см., например, употребление знаменитым французским лингвистом А. Мартине термина language («речевая деятельность»), а не термина langue («язык») в статье о речевых (языковых) функциях [Martinet, 1969]).
Однако, осознавая предметно-понятийную противоречивость термина «функция языка», мы считаем допустимым его использование для решения задач данной работы ввиду сформировавшейся традиции употребления данного терминологического сочетания в трудах по лингвистике.
Предметом нашего исследования выступают особенности содержания и варианты манифестации на поверхности текста метаязыковой функции языка.
Актуальность предпринятого исследования определяется, прежде всего, тем фактом, что количество метаязыковых контекстов в современной коммуникативной практике неуклонно растет. Некоторые ученые видят в увеличении количества метаязыковых высказываний важнейшую характеристику современного этапа истории речевой коммуникации. Так, Н.Б. Мечковская в насыщенности метаязыковых контекстов усматривает долговременную тенденцию, «состоящую в усилении значимости в общении метаязыковой семантики» [Мечковская, 2006, с. 175]. Обилие в речи метаязыковых комментариев позволили И.Т. Вепревой говорить о «метаязыковом привкусе эпохи» [Вепрева, 2014, с. 128–129]. Современная коммуникация все чаще рассматривается как переплетение единиц языка и метаязыка [Kačerauskas, Mickūnas, 2020]. Вместе с тем, несмотря на значительный рост интереса к изучению результатов метаязыковой рефлексии, вопрос о содержании метаязыковой функции и специфике ее реализации в речевой деятельности до настоящего времени не получил всестороннего освещения.
Цель исследования заключается в комплексном изучении и описании содержания метаязыковой функции языка. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 1) проведении ретроспективного анализа научных традиций в исследовании функций языка; 2) систематизации данных о метаязыковой функции естественного языка; 3) построении научно обоснованной картины реализации метаязыковой функции в современном художественном дискурсе.
Материал и методы
Источником для отбора речевого материала послужили относящиеся к разным литературным направлениям художественные произведения современных русских писателей, опубликованные в период с 1990 по 2022 год. Выбор указанной группы текстов обусловлен тем, что в них отражаются тенденции развития языка и актуальные особенности дискурсивных практик. Эмпирические данные собирались методами сплошной и направленной выборки отрезков с метаязыковой семантикой из текстов произведений.
В качестве основного метода использован описательный метод, включавший приемы обобщения, систематизации и классификации, дополненные элементами контекстуального и функционально-прагматического анализа.
Результаты и обсуждение
Обращение к истории вопроса дает основания для утверждения о том, что в изучении функций естественного языка сформировались глубокие теоретические традиции. С собственно лингвистических позиций проблема функций языка впервые была рассмотрена К. Бюлером. Немецкий лингвист обосновал положение о системном характере функций языка [Бюлер, 2000, с. 34–37]. В своих теоретических построениях К. Бюлер отталкивался от структуры коммуникативного (речевого) акта, из каждого компонента которого «вырастает» функция языка. При этом в трактовке ученого коммуникативный акт имеет простую трехчастную структуру: отправитель сообщения, получатель сообщения и предмет сообщения. С компонентом структуры «отправитель сообщения» К. Бюлер связывал экспрессивную функцию, сущность которой состоит в выражении отношения говорящего к фактам речи. Апеллирующая функция нацелена на адресата речи. К формам ее выражения К. Бюлер, в частности, относил высказывания с побудительной семантикой. Наконец, третьей и главной, по мнению К. Бюлера, является репрезентативная функция, заключающаяся в отражении предмета речи.
Впоследствии модель функций К. Бюлера была переработана и дополнена Р. Якобсоном. Именно модель, предложенная Р. Якобсоном в работе «Лингвистика и поэтика» [Якобсон, 1975], приобрела в лингвистической науке статус «классической», что в свою очередь определило ее высокую цитируемость в специальной литературе. Внесение изменений в модель К. Бюлера обусловлено наличием более сложной и расчлененной структуры коммуникативного акта в интерпретации Р. Якобсона. Помимо адресанта (в терминологии К. Бюлера – отправитель сообщения), адресата (получатель сообщения) и контекста (предмет сообщения), Р. Якобсон вводит в структуру коммуникативного акта такие компоненты, как код, контакт и сообщение [Якобсон, 1975, с. 198]. Соответственно, количество функций в его модели возрастает до шести: коммуникативная (референтивная), экспрессивная (эмотивная), апеллятивная (конатив-ная), фатическая, поэтическая и метаязыковая [Якобсон, 1975, с. 203]. Содержание первых трех указанных функций в целом соответствует содержанию функций, принятых в модели К. Бюлера. Фатическая функция заключается в установлении и поддержании контакта между коммуникантами в процессе речевого общения. Поэтическая – фиксируется в случаях концентрации внимания на сообщении как таковом, в случаях представления сообщения в качестве эстетического феномена. Наконец, ориентация сообщения на код (то есть ситуация, когда предметом высказывания становится сам код) осуществляется с помощью метаязыковой функции. Именно в модели Р. Якобсона метаязыковая функция впервые получила теоретическое обоснование в качестве неотъемлемой части функциональной системы языка.
Традиции исследования функций языка не исчерпываются построением собственно лингвистических моделей, опирающихся на структуру речевого акта. Функциональные модели языка могут иметь экстралингвистическую природу. Ярким примером такой традиции выступает разработанная М. Халлидеем модель, ориентированная на психосоциальные критерии: передачу культурного опыта и процесс социализации личности [Halliday, 1975, p. 18]. М. Халлидей описывает функции языка, сопровождающие процесс психического развития ребенка. По мнению автора, в онтогенезе язык имеет шесть базовых функций: инструментальную, регуляторную, интерактивную, персональную, эвристическую и имагинативную (функцию воображения) [Halliday, 1975, p. 19]. По мнению М. Халлидея, указанные функции проявляются в процессе развития ребенка последовательно. Инструментальная функция выполняет роль удовлетворения материальных потребностей ребенка, поэтому иносказательно М. Халлидей определяет ее как функцию «Хочу». Регуляторная функция призвана осуществлять контроль поведения собеседника, о чем свидетельствует ее альтернативное название «Делай как говорю». Интерактивная функция обеспечивает установление речевого контакта и взаимодействие с коммуникантами (отсюда ее альтернативное название – «Я и ты»). Персональная функция позволяет ребенку выразить собственную уникальность, противопоставить себя окружающему миру. К реализациям данной функции относятся высказывания, в которых проявляются личные чувства, эмоциональные реакции и волевые интенции говорящего. Содержание этой функции поясняется ее альтернативным названием «Вот и я». Эвристическая функция связана с исследованием ребенком окружающего пространства. Она материализуется в вопросах и сентенциях познавательного характера, поэтому она трактуется автором как функция «Скажи почему?». Функция воображения, или функция «Предположим...», запускает вербализацию процессов творческого осмысления действительности. Следует отметить, что М. Халлидей упоминает также информативную функцию языка (функцию «У меня есть что сказать»). Однако в научном сочинении последняя не получает должного рассмотрения ввиду того, что, по мнению автора, не соотносится с фазами раз-
М.А. Кравченко. Метаязык в зеркале его функций вития языка [Halliday, 1975, p. 19–21]. Указанная избирательность свидетельствует, на наш взгляд, об ограниченности модели функций языка, предложенной М. Халлидеем.
На современном этапе развития лингвистики наиболее дискуссионным является вопрос о количественном составе функций и их системном взаимодействии. Несколько умаляя разнообразие существующих в этом направлении теоретических подходов, можно говорить о существовании двух основных моделей представления функций языка: монофункциональной и полифункциональной.
До последнего времени монофункциональная модель превалировала в лингвистическом мире. Ее суть заключается в выделении одной главенствующей функции (как правило, коммуникативной). При этом остальные функции рассматриваются в качестве вспомогательных. Позиции монофункционализма с полной ясностью выражены в высказывании А.В. Карабыкова о том, что «единственной функцией языка является коммуникативная. В процессе речи она осуществляется в виде системы своих частных реализаций – эпифункций» [Карабыков, 2008, с. 84]. Указанная точка зрения разделяется в большинстве работ, посвященных вопросам установления функций языка (см., например: [Иваницкий, 2004; Карабыков, 2008; Малявина, 2010; Ма-мушкина, 2016; Korneeva, Kosacheva, Purpura, 2019; Martinet, 1969; Searle, 2014]). Особенно сильны позиции монофункционализма в отечественной лингвистике. Сложившаяся ситуация во многом подготовлена содержательными императивами советского периода в развитии лингвистической науки. Становление монофункциональной модели в советском языкознании имело объективные и субъективные предпосылки. К объективным предпосылкам отнесем наличие выраженного социологиза-торского крена в лингвистике, что предопределило выделение собственно общественной, коммуникативной, функции языка. Субъективные предпосылки, на наш взгляд, точно сформулированы Е.В. Савицкой, которая справедливо отмечает, что многие советские лингвисты оказались «в плену» у знаменитого ленинского определения языка как важнейшего средства человеческого общения [Савицкая, 2023, с. 14], в результате чего политическая целесообразность отодвинула на второй план научную объективность.
Однако новейшие исследования демонстрируют отход от монофункциональной традиции, при этом их авторы высказываются в пользу идей полифункционализма [Колесов, 2021; Карасик, 2022; Савицкая, 2023]. Сторонники полифункционализма не принимают постулат о примате одной функции в системе функций языка, в своей научной программе они отталкивается от факта многоаспектнос-ти языка и стремятся к рассмотрению языка во всей полноте его проявлений. Так, И.Ю. Колесов справедливо замечает, что язык обеспечивает не только коммуникацию, но и создает уникальный для данной лингво-культуры способ интерпретировать действительность, что позволяет говорить о наличии у языка отдельной интерпретирующей функции. Изучение данной функции открывает новые горизонты перед лингвистикой [Колесов, 2021]. Е.В. Савицкая предлагает отказаться от постулата о доминировании одной из функций в функциональной системе языка, утверждая, что речевая деятельность обеспечивается взаимодействием его мыслеформирующей, моделирующей и коммуникативной функций [Савицкая, 2023]. В.И. Карасик обратился к моделированию функций языка, результатом которого стало создание фрактальной модели языковых функций [Карасик, 2022]. Функциональный потенциал языка имеет векторную организацию. При этом «каждый из векторов функций языка допускает фрактальное уточнение и может быть развернут в той или иной объяснительной модели» [Карасик, 2022, с. 39], а «модель языковых функций должна быть многовекторной, поскольку мир многопричинен и многовариантен» [Карасик, 2022, с. 39].
Наше исследование выполнено в русле полифункциональной традиции. Руководствуясь известным высказыванием Р. Якобсона о том, что «язык следует изучать во всем разнообразии его функций» [Якобсон, 1975, с. 197], мы обратились к определению содержания метаязыковой функции.
Она представляет собой способность языка самому выступать в качестве референта высказываний (именно поэтому метаязыковую функцию иногда называют «авторефе- рентной»). В случаях автореференции имеет место семиотическое переключение с репрезентации окружающего мира на репрезентацию самого средства репрезентации – языкового кода. Метаязыковая функция порождает явление метаязыка. Последнее понятие нашло в лингвистике как узкое, так и широкое толкование. Узкая трактовка метаязыка сводит его к лингвистической терминологии. Широкая трактовка позволяет отнести к метаязыку потенциально любые языковые структуры, так как «метаязык в широком смысле – это все языковые средства, референт которых способен присутствовать в языке и речи; его главная ценность в способности эксплицировать все связанные с языком и его использованием явления, давать им метаимена и метаквалификацию» [Рябцева, 2005, с. 439].
Необходимо отметить, что исследование содержания метаязыковой функции сопряжено с рядом объективных трудностей. Первая из них заключается в отсутствии у метаязыка собственной субстанциональной основы и уникального инструментария средств выражения. Метаязык консубстан-ционален языку. Вторая трудность во многом видится следствием первой и связана с проблемой позитивного разграничения высказываний о слове (метаязыковых контекстов) и высказываний о денотате. Действительно, далеко не всегда при анализе дискурса удается достоверно отличать языковые высказывания от метаязыковых.
Необходимо заметить, что исследования, в которых поднимались бы вопросы содержания метаязыковой функции с выходом на построение классификаций видовых функций (эпифункций метаязыка), не многочисленны. Остановимся на наиболее заметных из них. К числу таковых, безусловно, нужно отнести фундаментальные исследования в области метаязыковой рефлексии, принадлежащие И.Т. Вепревой. Автор изучает метаязыковые комментарии с позиций социолингвистики. При этом к вопросу определения метаязыковой функции (функции метаязыковой рефлексии) она обращается не напрямую, а через оценку функций так называемых «рефлекси-вов» (отрезков текста, обладающих метаязыковой семантикой). И.Т. Вепрева выделяет две базовые функции рефлексивов: коммуникатив- ную (первичную, выполняющую роль коммуникативной правки кода) и концептуальную (вторичную, связанную с отражением аксиологической динамики и трансляцией актуальных мировоззренческих установок в обществе) [Вепрева, 2005, с. 8–9]. Констатируем, что социальные императивы, взятые на вооружение автором, не позволяют продемонстрировать в приведенной классификации внутренние особенности метаязыковой функции языка. Согласно И.Т. Вепревой, метаязыковой комментарий – это только своеобразный показатель, передающий информацию из внешнего внеязыкового пространства.
Изучению функций метаязыковой рефлексии уделила внимание М.Р. Шумарина. Рассматривая метаязыковую рефлексию в художественных текстах, она выделила три группы функций: текстовые, дискурсивные и социальные. Текстовые функции обеспечивают организацию текста, дискурсивные – осуществляют связь речевого отрезка с конкретной коммуникативной ситуацией и выполняют роль регулятора процесса общения, социальные – связывают метаязыковую деятельность с внешней внеязыковой средой [Шума-рина, 2011, с. 24–27].
В исследовании, выполненном Т.А. Кравцовой, выделен следующий набор функций метаязыкового содержания: герменевтическая, характерологическая и экспрессивная [Кравцова, 2014, с. 6]. Если герменевтическая функция раскрывает метаязыковое содержание (она апеллирует к коду, нейтрализуя коммуникативное напряжение и обеспечивая информационную устойчивость текста), то характерологическая и экспрессивная функции, на наш взгляд, переносят акцент на художественное творчество: они наполнены художественным содержанием. Так, характерологическая функция нацелена на описание и оценку персонажей. Экспрессивная функция направлена на стимулирование лингвокреативной деятельности читателя и выступает одной из констант в формировании творческого почерка, идеостиля писателя. Поэтому указанные две функции связаны с использованием метаязыковых комментариев в качестве изобразительно-выразительных средств художественного текста и имеют ярко выраженную стилистическую окраску.
По нашему мнению, наиболее разработанную и последовательную функциональную классификацию метаязыковых конструкций (не лишенную вместе с тем определенных недостатков) предложила Е.А. Андрусенко. Автор утверждает, что метаязыковые отрезки способны выполнять в тексте четыре основные функциональные роли: коммуникативную, характеризующую, эстетическую и стилистическую [Андрусенко, 2011]. Коммуникативная функция включает четыре подфункции: семантизирующую, фатическую, аффективную и номинативно-оценочную, каждая из которых передает специфическое метаязыковое содержание. Объединение последних в одну таксономическую группу, по-видимому, объясняется тем фактом, что Е.А. Андрусенко ведет исследование в русле монофункциональной традиции. Поэтому практически любое обращение к коду должно иметь коммуникативные «последствия». Семантизирующая подфункция связана с толкованием (уточнением) значений языковых единиц. Фатическая подфункция направлена на установление и поддержание внимания субъектов на особенностях кода. Аффективная и номинативно-оценочная подфункции служат для выражения через номинации эмоций и чувств, а также разного рода оценок.
Если коммуникативная функция метатекста в трактовке Е.А. Андрусенко наполнена метаязыковым содержанием, то остальные функции имеют с метаязыком лишь отдельные точки пересечения. Так, характеризующая функция связана с характеристикой персонажа произведения как языковой личности (содержание данной функции оказывается очень близким природе характерологической функции в концепции Т.А. Кравцовой). Суть эстетической функции заключается в использовании специальных стилистических приемов для передачи художественных смыслов. Стилистическая функция направлена на объяснение употребления стилистически маркированных слов. В последнем случае вызывает вопросы сам факт выделения этой функции, так как содержательно она вполне соответствует семантизирующей подфункции.
Проведенный анализ позволил нам прийти к выводу, что ни одна из существующих функциональных моделей в полной мере не определяет природу метаязыка. Содержание такой важнейшей функции языка, как метаязыковая, нуждается в дальнейшем осмыслении и уточнении.
Нами были изучены разнообразные проявления метаязыковой функции языка. В сферу нашего интереса вошли широкие метаязыковые возможности языка, находящиеся далеко за пределами лингвистической терминологии. К главным результатам исследования нужно отнести установление и описание системы функций естественного метаязыка (вновь оговоримся, что правильнее было бы говорить о функциях метаязыковой деятельности). Каждая из них представляет собой своеобразную грань реализации метаязыковой рефлексии, а их системное представление позволяет увидеть целостную картину реализации метаязыкового начала в дискурсе.
В ходе работы было установлено, что естественный метаязык выполняет две базовые функции: информационно-исследовательскую и моделирующую. Каждая из них имеет онтологическую основу на уровне человеческого сознания, представленную в форме специального психического субстрата.
Информационно-исследовательская функция опирается на ориентировочно-исследовательские механизмы психики субъекта, открытые для науки П.Я. Гальпериным [Гальперин, 2002]. Информационно-исследовательская функция обеспечивает возможность обращения субъектов коммуникации к языковому коду в ходе речевой деятельности с целью концентрации на нем дополнительного внимания, осуществления разного рода исследовательских процедур (как наивного, так и профессионального характера), а также извлечения из него необходимой информации, важной для поддержания эффективной коммуникации. В аспекте частотности реализации, информационно-исследовательская функция, безусловно, является главной функцией естественного метаязыка (из 2550 проанализированных метаязыковых контекстов она реализуется в 2356). Однако при этом данная функция характеризуется содержательной неоднородностью, что делает целесообразным выделение в ней видовых функций. Каждая из них занимает в системе свою содержательную нишу и способствует раскрытию объема общего понятия. К видовым функциям мы относим метафатическую, пояснительную, характеризующую, оценочную, поисковую, связующую и категоризирующую функции. Ниже дадим краткую характеристику указанным функциям.
Метафатическая функция содержательно близка фатической функции, которую в своей модели выделил Р. Якобсон. Она также связана с установлением контакта, но контакта не между отправителем и получателем сообщения. Метафатическая функция призвана поместить тот или иной отрезок текста (дискурса) в фокус сознания, тем самым обеспечивая его дополнительное осмысление. Данная функция манифестируется в тексте разнообразными способами, наиболее частотными из которых являются использование лексико-семантического повтора, формирование специального метаязыкового комментария и применение параграфемных средств (иногда в сочетании с нестандартной графикой и орфографией):
-
(1) На одной их чаше покоилось светлое будущее с крепкой, добела отмытой карьерной лестницей... с гарантированной месткомовской путевкой в летние (летние!) Гагры (Степнова, 2022, с. 172);
-
(2) Мы помчались в «Ремонт аквариумов», куда-то на Электродный проезд. Бывают же названия ! (Поляков, 2021, с. 204).
Пояснительная функция направлена на поддержание коммуникативной ясности кода. Экспликация семантики единиц кода в большинстве случаев преследует цель преодоления агнонимичности языковых структур. Последняя обычно вызвана употреблением в речи слов иноязычного происхождения, историзмов, архаизмов, диалектизмов, а также лексикофразеологических элементов разного рода социальных и профессиональных жаргонов:
-
(3) Он очень интересно рассказывал про жизнь эвенков. Они себя называют «чавчыв» – оленьи люди (Шишкин, 2017, с. 57);
-
(4) Но избитый, как на грех, оказался младшим братом печально знаменитого Гвоздя – Мишки Гвоздева, недавно откинувшегося, что значит – вернувшегося из тюрьмы (Поляков, 2022, с. 285).
Пояснения распространяются не только на содержательную сторону кода. Они могут касаться формы языковых единиц (как внешней, так и внутренней). Пояснения внешней формы знака сопровождаются комментариями по поводу его звуковой (графической) оболочки:
-
(5) Линдта они любили – впрочем, на полигонах любили всех «промыслов» (ударение на второе, густое «о») ... (Степнова, 2022, с. 156).
Пояснения внутренней формы знаков, как правило, представляют собой комментарии к этимологии слов:
-
(6) Да, теперь пишут «шариковыми ручками» (внутри пера шарик) – так вот, это то, что Валентина несколько дней назад от меня прятала (Водолазкин, 2016, с. 42).
Характеризующая функция , в отличие от одноименной функции в модели Е.А. Андрусенко и характерологической функции в модели Т.А. Кравцовой, направлена не на характеристику языковой личности персонажа художественного произведения, а на характеристику элементов языкового кода. Данная функция является в определенной степени продолжением пояснительной функции, но отражает более глубокие исследовательские процедуры, проведенные отправителем сообщения. Результаты рефлексии над кодом представлены в виде его разнообразных характеристик, которые могут иметь семантический, семантико-стилистический, функциональный, коммуникативный, нормативный характер:
-
(7) Кто-то будет строить алюминиевый завод неподалеку, кто-то переедет ниже по реке воздвигать новую станцию, новую «гидру», как у них говорят (Сенчин, 2015, с. 192);
-
(8) И все-таки я патриот – я люблю наше жестокое несправедливое общество живущее в условиях вечной мерзлоты. После слова «общество» должна была стоять запятая (Пелевин, 2013, с. 21).
В оценочной функции реализуются другие возможности исследования кода. Если пояснение и характеристика кода связаны с выявлением его дескриптивных сущностей, то при оценивании исследование переходит в область аксиологических сущностей и в метаязыковых комментариях дается оценка элементу кода:
-
(9) «Посмотрим. В любом случае – мы с рыбой.» «Мы, – повторил про себя Топкин и потом
еще долго повторял: «Мы... мы.» «Мы» – это она, Ольга, и он, Андрей. «Мы» – какое хорошее, надежное слово (Сенчин, 2021, с. 36).
Поисковая функция реализуется в случаях, когда денотативная отнесенность отправителем сообщения определена, но он испытывает затруднения с облечением ее в знаковую форму. В отличие от вышеописанных функций, поисковая функция осуществляется по отношению к семиозису не post factum, а ante factum, то есть непосредственно в процессе кодирования, когда адресант осуществляет выбор необходимого элемента кода:
-
(10) Наша культура была в то время, я бы сказал, э-э-э... Довольно пугающей. Героически-на-сильственной, так сказать (Пелевин, 2013, с. 168);
-
(11) Настоящего удивления (даже, пожалуй, восхищения) заслуживало только одно... (Рубина, 2011, с. 29).
Связующая функция , или функция связности, способствует формальному и смысловому единству текста (дискурса). В процессе реализации данной функции текст насыщается специальными метаязыковыми (метатекстовыми) элементами, которые фиксируют внутритекстовые связи. Связующие элементы представляют информацию, указывающую на смысловую эквивалентность, причинно-следственные отношения отрезков текста, ход мыслей адресанта, на их резюмирование, а также обеспечивают «навигацию» внутри текста:
-
(12) А второй закон звучал так: «Творящая воля человека не должна создавать радикально новых форм». Другими словами , отныне медиумам разрешалось лишь воспроизводить существующее (Пелевин, 2018, с. 115);
-
(13) А я хотел, чтобы она сама посидела над меню, выбрала, отвергла что-то и снова выбрала, короче – вступила в контакт с окружающим миром... (Рубина, 2011, с. 223).
Категоризирующая функция заключается в таком осмыслении знака (последовательности знаков), которое позволяет видеть в нем признаки, обеспечивающие возможность причислить его к некоторым категориям. Эти слова-категории фигурируют в качестве семантических ниш, в которые можно заключить исходные единицы кода. Катего- ризирующая функция реализуется в метаязыковых отрезках двух типов. В отрезках первого типа слово-категория в тексте следует за фрагментом кода, подвергшимся категоризации (то есть находится в постпозиции):
-
(14) Леклер ликовал (красивая аллитерация) (Водолазкин, 2021, с. 176);
-
(15) «Кто не с нами – тот против нас». Помните этот лозунг ? (Сенчин, 2021, с. 222).
В отрезках второго типа слово-категория предшествует категоризируемому элементу (то есть находится в препозиции):
-
(16) Прибегая к оксюморону , я бы сказал, что кладбище должно быть живым (Водолазкин, 2020, с. 61).
Следует отметить, что категоризирующая функция в системе информационно-исследовательских функций естественного метаязыка занимает промежуточное положение между характеризующей и связующей функциями. С характеризующей функцией ее сближает то, что сам факт категоризации предполагает внутреннюю характеристику объекта, со связующей – способность содействовать связности текста. При этом последняя поддерживается на денотативном уровне: категоризирующий и категоризируемый элементы кода образуют единое поле денотативной отнесенности.
Второй базовой функцией естественного метаязыка является моделирующая функция . Она отличается от информационно-исследовательской онтологически, структурно и содержательно. Так, моделирующая функция опирается на творческие механизмы психики субъекта и не образует сложной структуры в виде подфункций. Содержательно она направлена не на извлечение информации о коде, а на его творческое осмысление с целью последующей переработки и креативного использования в речевой деятельности, то есть нового моделирования действительности. Моделирующая функция широко задействует потенциал языковой игры. В этом смысле она может называться игровой функцией. Основными предпосылками языковой игры выступают глубокое знание адресантом и его тонкое умение оперировать элементами кода, что невозможно вне метаязыковой рефлексии.
Поэтому языковую игру мы причисляем к метаязыковым категориям.
Еще одной характерной чертой моделирующей функции является имплицитность ее реализации в тексте. В отличие от информационно-исследовательской функции, которая, как правило, манифестируется эксплицитно в форме специального более или менее развернутого метаязыкового комментария, метаязыковое моделирование осуществляется в свернутом виде:
-
(17) Если Италии нет – о вкусах спорят. Деньги пахнут. О мертвых можно все. Все дороги ведут в пустоту (Толстая, 2008, с. 83);
-
(18) В декабре роту расквартировали в колхозе «Восьмое марта», но теплее от этого не стало (Водолазкин, 2014, с. 405).
Распространенной формой реализации моделирующей функции естественного метаязыка выступают фрагменты кода, в которых смоделированы аллюзии, апеллирующие к прецедентным феноменам, семантике и внутренней форме отдельных знаков.
Заключение
В исследовании функций языка преобладают две научные традиции: монофункциональная и полифункциональная. Монофункциональная традиция на первый план выдвигает коммуникативную функцию, рассматривая ее либо как единственную, либо как ключевую. Полифункциональная традиция настаивает на «равноправии» функций и их последовательном изучении, что позволит описать язык во всех его проявлениях.
Результаты анализа научных работ, посвященных исследованию проявлений метаязыковой рефлексии в тексте, позволил прийти к выводу о том, что вопрос о содержании метаязыковой функции языка остается дискуссионным. Недостаток существующих точек зрения заключается в том, что они не лишены признаков эклектики при описании содержания метаязыковой функции лингвисты, как правило, объединяют имманентные характеристики метаязыковой деятельности и характеристики, привнесенные из разного рода социокультурных, прагматических и художественных контекстов. Это зачастую приводит к смешению релевантных и нерелевантных для метаязыка ролей.
Информационно-исследовательская функция связана с извлечением информации о коде. В качестве ее психического субстрата выступают ориентировочно-исследовательские механизмы психики субъекта. Информационноисследовательская функция может реализовываться в тексте (дискурсе) в виде одной из своих подфункций (эпифункций), образующих нижний уровень таксономии. Такими вариантами реализации информационно-исследовательской функции выступают метафатическая, пояснительная, характеризующая, оценочная, поисковая, связующая и категоризирующая функции.
Метафатическая функция позволяет поместить языковую единицу в фокус метаязыковой рефлексии, привлечь к ней дополнительное внимание коммуникантов. Пояснительная функция, как правило, связана с трактовкой семантики языковых единиц. Характеризующая функция направлена на фиксацию свойств и признаков элементов языкового кода. Оценочная функция обеспечивает восприятие и экспликацию языковых фактов в аксиологических терминах. Поисковая функция определяет выбор элементов кода, соответствующих денотату. Связующая функция направлена на формирование связей между элементами кода. Категоризирующая функция дает возможность описать элементы кода посредством их категоризации, то есть отнесения к определенным семантическим категориям.
Моделирующая функция направлена на преобразование кода, а не извлечение информации о нем. Данная функция базируется на творческих механизмах психики рефлексирующего субъекта. Релевантными признаками моделирующей функции выступает использование механизмов языковой игры, а также имплицитный характер реализации в тексте.
Таким образом, система контекстуально обусловленных метаязыковых ролей, обладающих информационно-исследовательской и моделирующей спецификой, образуют содержание феномена, который в лингвистике принято называть метаязыковой функцией языка.
Список литературы Метаязык в зеркале его функций
- Андрусенко Е. А., 2011. Функции метатекста в художественном тексте (на материале произведений В. Астафьева) // Сибирский филологический журнал. № 1. С. 89–94.
- Бюлер К., 2000. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс. 501 с.
- Вепрева И. Т., 2005. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М.: ОЛМА-ПРЕСС. 384 с.
- Вепрева И. Т., 2014. Метаязыковой привкус эпохи. Избранные работы последнего десятилетия. Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing. 223 с.
- Гальперин П. Я., 2002. Лекции по психологии. М.: Кн. дом «Университет». 399 с.
- Иваницкий В. В., 2004. Функции языка // Вестник Новгородского государственного университета. № 29. С. 103–110.
- Карабыков А. В., 2008. К вопросу о системном представлении функций языка // Вестник Омского университета. № 3. С. 79–84.
- Карасик В. И., 2022. Моделирование функций языка // Язык и культура. № 58. С. 29–42.
- Колесов И. Ю., 2021. Интерпретирующая функция языка и пространственная метафора // Исследования языка и современное гуманитарное знание. Т. 3, № 2. С. 153–159.
- Кравцова Т. А., 2014. Содержательно-прагматический потенциал метаязыкового комментария в англоязычном художественном дискурсе: автореф. дис.... канд. филол. наук. Барнаул. 22 с.
- Малявина О. Н., 2010. Варианты и инварианты функций языка в социокультурном контексте // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 1 (17). С. 126–132.
- Мамушкина С. Ю., 2016. Коммуникативная релевантность языковых функций // Балтийский гуманитарный журнал. Т. 5, № 4 (17). С. 84–87.
- Мечковская Н. Б., 2006. Естественный язык и метаязыковая рефлексия в век Интернета // Русский язык в научном освещении. № 2. С. 165–185.
- Савицкая Е. В., 2023. К вопросу о приоритетах в спектре функций естественного языка // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 1. С. 13–19.
- Рябцева Н. К., 2005. Язык и естественный интеллект. М.: Academia. 640 с.
- Шумарина М. Р., 2011. Язык в зеркале художественного текста: (Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы). М.: Флинта: Наука. 328 с.
- Якобсон Р., 1975. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс. С. 193–230.
- Halliday M. A. K., 1975. Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language. L.: Arnold. 176 p.
- Kačerauskas T., Mickūnas A., 2020. Language. Metalanguage and Communication // Between Communication Theories Through One Hundred Questions. Humanities. Arts and Humanities in Progress. Cham: Springer. Vol. 14. P. 127–157.
- Korneeva A., Kosacheva T., Purpura O., 2019. Functions of Language in the Social Context // SHS Web of Conferences 69, CILDIAH-2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/336802501
- Martinet A., 1969. Fonctions du langage et linguistique appliquée // Communication et langages. № 1. P. 9–18.
- Searle J. R., 2014. The Structure and Functions of Language // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. № 36 (49). P. 27–40.