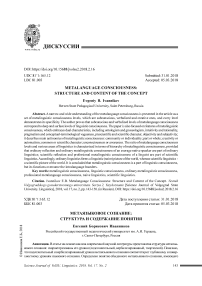Метаязыковое сознание: структура и содержание понятия
Автор: Иванников Евгений Борисович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа современной научной литературы представлена структура метаязыкового сознания: охарактеризованы его уровни (подсознательный, вербализированный, творческий). Показано, что подсознательный и вербализированный уровни метаязыкового сознания соответствуют глубинному и поверхностному уровням языкового сознания. Определено понятие обыденного метаязыкового сознания, имеющего такие двойственные характеристики, как онтологичность и гносеологичность; интуитивность и рационалистичность; прагматичность и понятийно-терминологическая нечеткость; донаучность и научность; объектностьи субъектность. Установлены и представлены как антиномии основные свойства метаязыкового сознания: общественность / индивидуальность; часть / целое; креативность / автоматизированность; обыденность / научность; неосознанность / осознанность. Показано соотношение уровней метаязыкового сознания и различных областей лингвистики, проявляющееся в том, что подсознательный уровень метаязыкового сознания, обыденная рефлексия и обыденное метаязыковое сознание рядового носителя языка входят в область обыденной лингвистики; научная рефлексия и профессиональное метаязыковое сознание лингвиста входят в область научной лингвистики. При этом обыденная лингвистика образует языковую (наивную) картину мира; научная лингвистика - научную картину мира. Вывод о том, что метаязыковое сознание, будучи частью языкового сознания, в то же время функционирует за его пределами, позволяет разграничить термины «метаязыковое сознание» и «языковое сознание».
Метаязыковое сознание, языковое сознание, обыденное метаязыковое сознание, обыденная лингвистика, профессиональное метаязыковое сознание, научная лингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14970374
IDR: 14970374 | УДК: 81'1:165.12 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.2.16
Текст научной статьи Метаязыковое сознание: структура и содержание понятия
DOI:
На современном этапе формирования гуманитарной науки возникает необходимость терминологического упорядочения в области исследования языка и мышления. Так, по-разному понимается термин «метаязыковое сознание». Зачастую он используется как синоним термина «языковое сознание». Этому способствует, по мнению лингвистов, ряд причин: во-первых, термины хронологически относятся к разными этапам развития лингвистики; во-вторых, создание терминов проходило в русле разнообразных научных направлений и школ; в-третьих, размытость и неоднозначность границ терминов объясняется многоас-пектностью, глубиной и низким уровнем определенности самого понятия «сознание» [Кравченко, Кравченко, 2015, с. 106]. Однако достижения в изучении метаязыковой деятельности человека дают основания для разграничения терминов «языковое сознание» и «метаязыковое сознание» как обозначающих разные феномены.
Систематизация современной научной литературы позволяет представить объем понятия «метаязыковое сознание» и аргументировать тем самым разграничение этих терминов.
Метаязыковое сознание: узкое и широкое понимание
В науке сложились два подхода к пониманию метаязыкового сознания, условно обозначаемые как узкий и широкий.
При узком понимании метаязыковое сознание – часть языкового сознания, функционирующая только на поверхностном уровне языкового сознания. В соответствии с этим метаязыковое сознание определяется как «область рационально-логического, рефлексирующего языкового сознания, направленного на отражение языка-объекта как элемента действительного мира» [Ростова, 2006, с. 24].
Метаязыковое сознание, будучи поверхностным уровнем языкового сознания, выражается «в рефлексии говорящего по поводу языковой организации, в суждениях индивида о языке, о собственных речевых тактиках». Поверхностный уровень организует «мышление о языке» [Ростова, 2008, с. 50]. Узкого понимания метаязыкового сознания придерживается и Н.Д. Голев, указывающий на то, что существуют две формы языкового сознания: собственно языковое сознание и метаязыковое сознание, при котором «носитель языка встает “над” языком, выступая в роли субъекта, познающего язык во всех его ипостасях и самого себя как носителя языка» [Голев, 2009а, с. 7].
При широком понимании метаязыковое сознание определяется как «область знания человека о своем языке» [Шафтельская, 2012, с. 125]. Оно лишь частично пересекается с языковым сознанием, поскольку включает в свою структуру не только поверхностный уровень языкового сознания, но и область бессознательного, а также собственно метаязыковую деятельность, выраженную в различных формах языкового творчества. Именно поэтому сторонники широкого понимания полагают, что метаязыковое сознание «нельзя редуцировать до компонента языкового сознания» [Кравченко, Кравченко, 2015, с. 107].
Структура метаязыкового сознания
Содержание понятия «метаязыковое сознание» получает отражение в его структуре. Согласно концепции М.Р. Шумариной, метаязыковое сознание имеет структуру, состоящую из трех уровней:
– подсознательный ( бессознательный ). На этом уровне речевой самоконтроль реализуется автоматизированно и бессознательно. Метаязыковое сознание представлено в имплицитном состоянии;
– вербализированный . На этом уровне речевой самоконтроль реализуется либо в исправлении допущенных ошибок и неточностей, либо в предвидении и предупреждении возможного коммуникативного сбоя. В метаязыковой рефлексии звучит своеобразное оправдание в употреблении того или иного выражения и дается оценка используемым речевым средствам. Метаязыковое сознание представлено в эксплицитном состоянии;
– творческий . На этом уровне субъект рефлексии не просто осознает объект, но сознательно выделяет его и подвергает творческому переосмыслению. В результате происходят определенного рода приращения, метаязыковая рефлексия обогащает содержание объекта и расширяет возможности его использования и интерпретации [Шумарина, 2011, с. 46–49].
Первый уровень метаязыкового сознания выражен в так называемой «нерефлектирующей рефлексии», под которой понимается «свободное ассоциирование, первая реакция на интерпретируемый знак, бессознательная, мгновенная, автоматическая, обнаруживающаяся в оценках воспринимающего знак субъекта» [Дударева, 2010, с. 289]. Первый уровень метаязыкового сознания в концепции М.Р. Шумариной соотносится с глубинным уровнем языкового сознания в концепции А.Н. Ростовой. Общими функциональными признаками данных уровней являются регуляция речемыслительной деятельности и контроль автоматизированных действий говоряще- го при порождении речи. Причина такой размытости границ метаязыкового сознания связана с тем, что метаязыковое сознание «включает не только сферу явного, вербализованного, но и сферу скрытого осознания» [Ростова, 2000, с. 45].
Второй уровень метаязыкового сознания, согласно А.Ф. Колясевой, включает два подуровня:
– теоретически несистематизированное сознание;
– теоретически систематизированное сознание [Колясева, 2014, с. 157].
Первый подуровень реализуется в форме многочисленных «эмпирических знаний и представлений о языке основной массы говорящих» и функционирует в сфере обыденного сознания [Блинова, 2012, с. 168]. Второй подуровень реализуется «в форме системы научных понятий, суждений, теоретических доказательств» [Блинова, 2012, с. 168] и функционирует в сфере профессиональной лингвистики. Соответственно, первый подуровень определяется как обыденное метаязыковое сознание рядовых носителей языка, а второй – как профессиональное метаязыковое сознание лингвистов [Левенталь, 2014, с. 78].
Второй уровень метаязыкового сознания в концепции М.Р. Шумариной тождествен «поверхностному уровню языкового сознания», выделенному А.Н. Ростовой. Соответственно, при узком понимании метаязыковое сознание рассматривается как совокупность двух разновидностей сознания: обыденного метаязыкового сознания рядовых носителей языка и профессионального метаязыкового сознания лингвистов. При этом обыденное метаязыковое сознание первично по отношению к профессиональному (лингвистическому) метаязыковому сознанию, так как любая научная работа начинается с обыденной метаязыковой деятельности [Трофимова, 2009, с. 46].
Отдельного рассмотрения заслуживает обыденное метаязыковое сознание (далее – ОМС), которое «является фундаментальной категорией, существенно влияющей на повседневную речевую практику, на преподавание языка в школе и вузе, на решение вопросов языкового строительства, на состояние ментальности в обществе и, наконец, опосредованно или прямо на саму науку о языке» [Голев, 2008, с. 5].
Обыденное метаязыковое сознание играет важную роль в формировании языковой компетенции говорящих [Ундармаа, 2014, с. 48]. ОМС понимается как «совокупность знаний, представлений, суждений о языке, элементах его структуры, их формальной и смысловой соотносительности, функционировании, развитии и т. д.» [Ростова, 2000, с. 45].
Обыденное метаязыковое сознание обладает рядом признаков, которые имеют двойственный характер.
Онтологичность – гносеологичность
Онтологическая сущность ОМС выражена в том, что оно, по мнению М.Р. Шума-риной, является частью наивной картины мира [Шумарина, 2009, с. 220]. ОМС взаимосвязано с гносеологией: «с уровнем развития цивилизации, науки и самопознания человека, со стилем мышления, техническим прогрессом, актуальными в данном культурном контексте гносеологическими, стратегическими и тактическими проблемами и методами познания, особенно способностей и возможностей человека и т. п. Это проявляется в рефлексии представлений, стереотипов, предубеждений, противоречий и т. п.» [Базылев, 2012, с. 235].
Интуитивность – рационалистичность
Такая двойственность выражена в том, что обыденное метаязыковое сознание «на практике ориентируется на интуицию, а рефлектирует по поводу языка в рационалистических модальностях и понятиях» [Голев, 2009б, с. 281].
Прагматичность – понятийно-терминологическая нечеткость
Обыденное метаязыковое сознание характеризуется высокой степенью «детерминированности метаязыковых представлений практическим опытом дискурсивной деятельности». При этом «метаязыковые операторы, используемые рядовыми носителями языка, довольно регулярно не совпадают в своем значении с соответствующими лингвистическими терминами» [Шумарина, 2010, с. 301].
Донаучность – научность
ОМС взаимосвязано с донаучным и научным контекстом, то есть «с практическим, обыденным, донаучным языком и научным знанием и его языком, пусть даже и весьма маргинально» [Базылев, 2012, с. 234].
Объектность – субъектность
Обыденное метаязыковое сознание предполагает одновременно фокусирование внимания на деятельности слушающего и адресата речевого произведения, занимающего двойственную объектно-субъектную позицию [Ким, 2010, с. 94].
ОМС как часть естественного языка осмысленно «использует все имеющиеся в языке внутренние ресурсы, когнитивные и коммуникативные, лексические и грамматические, структурные и системные: метафору, метонимию, словообразование, синонимию, антонимию, аналогию, заимствования» [Базылев, 2012, с. 234]. При этом ОМС уделяет повышенное внимание функциональной стороне языка. Это «проявляется не только в комментировании социальных функций языка, в приписывании слову определенной (иногда магической) силы, но и в постоянном “контроле” за свойствами, которые обеспечивают пользователю “удобство”» при употреблении языка [Шумарина, 2009, с. 220]. Таким образом, обыденное метаязыковое сознание поддерживает своеобразный «комфорт» использования языка.
ОМС объединяет различные системы: язык и сознание, обыденное сознание и лингвистическое сознание, ментально-языковую и социальную жизнь человека, сопряженные с языковой деятельностью [Голев, 2008, с. 5].
Третий уровень – творческая рефлексия – реализуется в сложных трансформациях, результаты которых проявляются на втором уровне метаязыкового сознания: лингвистическое мифотворчество и языковая игра преобразуются в теоретически несистематизированное сознание (обыденные метаязыковые представления), а научно-исследовательское творчество лингвиста выступает источником пополнения теоретически систематизированного сознания (научно-лингвистическое знание). Кроме того, на третьем уровне метаязыкового сознания функционирует эстетическая рефлексия, выраженная в различных текстах: художественных, художественно-публицистических, фольклорных.
Таким образом, третий уровень метаязыкового сознания представлен следующими формами творческой рефлексии: научной, обыденной и эстетической.
Научная рефлексия связана с научноисследовательским творчеством лингвиста и формирует научно-лингвистическое знание, которое «усваивается коллективным и индивидуальным метаязыковым сознанием и воспроизводится уже в процессе стандартизованной рефлексии, которая действует на втором уровне метаязыкового сознания» [Шумарина, 2011, с. 51].
Обыденная рефлексия языка обусловлена лингвистическим мифотворчеством и языковой игрой и формирует обыденное знание, выраженное в нестандартных, личностно окрашенных комментированиях фактов языка / речи [Шумарина, 2011, с. 49].
Эстетическая рефлексия выражается в художественном творчестве и «является “художественным освоением” различных положений о языке и речи в эстетически организованных текстах» [Шумарина, 2011, с. 50]. Эстетическая рефлексия формирует поэтическое метаязыковое сознание, которое, в отличие от обыденного метаязыкового сознания, всегда осознанно и вербализованно, а также сближается одновременно с обыденным и с научным сознанием [Кузьмина, 2009, с. 208–209].
Научная рефлексия и профессиональное метаязыковое сознание лингвиста входят в область так называемой научной лингвистики , образующей научную картину мира [Ефремов, 2009, с. 34–35].
Подсознательный уровень метаязыкового сознания, обыденная рефлексия и обыденное метаязыковое сознание рядового носителя языка входят в область так называемой обыденной лингвистики , которая понимается как «метаязыковая деятельность индивида в области восприятия лексических, фонетических, грамматических, стилистических и прочих явлений в языке» [Трофимова, 2009, с. 47]. Обыденная лингвистика образует языковую (наивную) картину мира.
Свойства метаязыкового сознания
Широкое понимание метаязыкового сознания позволяет трактовать его как «сложный и противоречивый феномен, формируемый под воздействием разных детерминант» [Голев, 2012, с. 326] и характеризующийся рядом свойств, которые можно представить как антиномии.
Общественность / индивидуальность Метаязыковое сознание как форма общественного сознания «является частью национального менталитета наряду с другими формами обыденного сознания» [Шапилова, 2010, с. 111]. При этом метаязыковое сознание, будучи общественным явлением, имеет индивидуальную форму объективации.
Часть / целое
Метаязыковое сознание одновременно является и частью языкового сознания, и отдельным целым, выходящим за рамки языкового сознания. Данный диалектический характер структуры метаязыкового сознания обусловлен тем, что «метаязыковое сознание имеет широкий диапазон форм – от “молчаливой рефлексии” рядовых носителей языка до серьезной теоретической рефлексии профессиональных лингвистов» [Левенталь, 2014, с. 78].
Креативность / автоматизирован-ность
Основными источниками пополнения вербализированного уровня метаязыкового сознания являются различные формы творческой рефлексии, отражающие креативную сущность метаязыкового сознания. При этом некоторая метаязыковая деятельность верба-лизированного уровня метаязыкового сознания может доводиться до автоматизма и переходить на подсознательный уровень метаязыкового сознания.
Обыденность / научность
Обыденность является одним из важнейших признаков метаязыкового сознания [Левенталь, 2014, с. 78]. Она отражает область обыденной лингвистики, включающей подсознательное обыденное метаязыковое сознание и обыденную рефлексию рядового носителя языка. Обыденная лингвистика противопоставлена научной лингвистике, которая состоит из профессионального метаязыкового сознания и научной рефлексии лингвиста. При этом научная лингвистика развивается на основе обыденной лингвистики. Соответственно, обыденность, с одной стороны, противопоставлена научности, а с другой – является ее основой.
Неосознанность / осознанность
Некоторые уровни метаязыкового сознания реализуются как в подсознательной, так и в сознательной областях: на первом уровне метаязыкового сознания это рефлексия в им- плицитном состоянии («нерефлектирующая рефлексия»); на втором и третьем уровнях это рефлексия в эксплицитном состоянии, то есть в вербализированной форме.
Выводы
Метаязыковое сознание имеет структуру, состоящую из трех уровней: подсознательного, вербализированного, творческого, каждый из которых характеризуется рядом особенностей и свойств. Уровни метаязыкового сознания соотносятся с различными областями лингвистики: подсознательный уровень метаязыкового сознания, обыденная рефлексия и обыденное метаязыковое сознание рядового носителя языка входят в область обыденной лингвистики; научная рефлексия и профессиональное метаязыковое сознание лингвиста входят в область научной лингвистики.
Термины «метаязыковое сознание» и «языковое сознание» необходимо разграничивать, так как метаязыковое сознание одновременно является частью языкового сознания и в то же время выходит за его пределы. Подсознательный и вербализированный уровни метаязыкового сознания соотносятся с глубинным и поверхностным уровнями языкового сознания. Творческий уровень метаязыкового сознания не соответствует ни одному уровню языкового сознания, реализуя различные формы творческой рефлексии.
Список литературы Метаязыковое сознание: структура и содержание понятия
- Базылев В. Н., 2012. Релевантность и нерелевантность метаязыкового знания как категории диахронического описания повседневного опыта//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. IV. С. 231-241.
- Блинова О. И., 2012. Лексикографический способ исследования метаязыкового сознания//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. IV. С. 168-177.
- Голев Н. Д., 2008. Особенности современного обыденного метаязыкового сознания в зеркале обсуждения вопросов языкового строительства//Вестник Томского государственного университета. Филология. № 3 (4). С. 5-17.
- Голев, Н. Д., 2009а. Обыденное метаязыковое сознание как онтолого-гносеологический феномен (к поискам «лингвогносеологем»)//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та. Ч. I. С. 7-40.
- Голев Н. Д., 2009б. Современное российское обыденное метаязыковое сознание между наукой и школьным курсом русского языка («правильность» как базовый постулат наивной лингвистики)//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Томск: Томский гос. пед. ун-т. Ч. II. С. 261-282.
- Голев Н. Д., 2012. Вариативность метаязыкового сознания студентов-филологов и научный плюрализм (антиномический анализ проблемы)//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. IV. С. 306-330.
- Дударева Я. А., 2010. Ассоциативно-интерпретационная деятельность рядовых носителей русского языка при определении тождества, сходства и различия товарных знаков//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. III. С. 286-292.
- Ефремов В. А., 2009. «Мужчина» и «женщина» в русской языковой картине мира. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 184 с.
- Ким Л. Г., 2010. Текст как объект метаязыковой деятельности субъекта-интерпретатора//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. III. С. 94-109.
- Колясева А. Ф., 2014. Терминология в зеркале языкового сознания//Филология и человек. № 2. С. 151-161.
- Кравченко М. А., Кравченко О. В., 2015. О соотношении понятий «языковое сознание» и «метаязыковое сознание»//Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 9, ч. 1. С. 105-108.
- Кузьмина Н. А., 2009. Автокомментирование как форма проявления метаязыкового сознания (на материале русской поэзии новейшего времени)//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты./отв. ред. Н. Д. Голев. Томск: Томский гос. пед. ун-т. Ч. II. С. 192-209.
- Левенталь И. В., 2014. Стратегии толкования слов обыденного метаязыкового сознания и их применение в учебной лексикографии//Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 8, ч. 2. С. 77-81.
- Ростова А. Н., 2000. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания (на материале говоров Сибири). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 193 с.
- Ростова А. Н., 2006. Языковое мышление в концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ и в современной лингвистике//III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания: труды и материалы: в 2 т./под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Г. А. Николаева. Казань: Казанский гос. ун-т. Т. 2. C. 22-26.
- Ростова А. Н., 2008. Обыденное метаязыковое сознание: статус и аспекты изучения//Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: межвуз. сб. науч. тр./отв. ред. А. Н. Ростова. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 49-57.
- Трофимова Е. Б., 2009. «Обыденное языковое сознание»: размышления на заданную тему//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Томск: Томский гос. пед. ун-т. Ч. II. С. 46-51.
- Ундармаа Д., 2014. Обыденное языковое сознание и способы его описания//Общетеоретические и типологические проблемы языкознания: сб. науч. ст./отв. ред. У. М. Трофимова. Бийск: Алтайская гос. акад. образования им. В.М. Шукшина. С. 45-50.
- Шапилова Н. И., 2010. Метаязыковые рефлексивы в художественном дискурсе (на материале произведений В.П. Астафьева)//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. III. С. 110-117.
- Шафтельская Н. В., 2012. Метаязыковое сознание как часть языкового сознания//Язык и культура: сб. ст./отв. ред. С. К. Гураль. Томск: Томский гос. ун-т. С. 125-127.
- Шумарина М. Р., 2009. Обыденное метаязыковое сознание в зеркале художественного текста//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Томск: Томский гос. пед. ун-т. Ч. II. С. 210-222.
- Шумарина М. Р., 2010. «Наивная» социолингвистика//Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты/отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. Ч. III. С. 301-313.
- Шумарина М. Р., 2011. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы). М.: Флинта: Наука. 325 с.