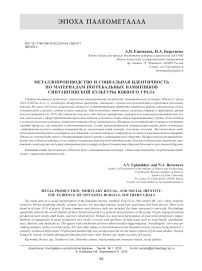Металлопроизводство и социальная идентичность по материалам погребальных памятников синташтинской культуры Южного Урала
Автор: Епимахов А.В., Берсенева Н.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам социальной интерпретации погребений синташтинской культуры Южного Урала (XXI-XVIII вв. до н.э.), в которых обнаружены предметы, связанные с процессом производства и обработки бронзовых изделий. Не менее 10 % всех захоронений содержало соответствующие атрибуты (литейные формы, керамические сопла, остатки руды и шлаков, слитки и капли металла). При включении в этот список каменных ударных и абразивных орудий доля увеличивается до 16 %. Исследование показало, что данные артефакты маркировали социальную идентичность людей, вовлеченных в сферу производства бронзовых изделий, и позволило дать общую характеристику группы. В нее входили в основном взрослые мужчины, количество которых было ограниченным. Женщины могли принимать участие в некоторых стадиях процесса, как минимум в подготовительных. Следы производственной специализации крайне редко сочетались с атрибутами высокого статуса (навершия булав, наконечники копий, топоры, колесницы и псалии). Это полностью соответствует выводам кросс-культурных исследований, согласно которым «металлурги» не занимали высшие ступени иерархии. Однако не может быть речи и о дискриминации данной группы в синташтинском обществе. Профессиональная принадлежность была одним из важных, но не главным основанием персональной идентичности. В целом наличие даже единичных захоронений «металлургов» выделяет синташтинскую культуру на фоне большинства обществ бронзового века степной Евразии.
Бронзовый век, южный урал, синташтинская культура, металлопроизводство, социальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/145145746
IDR: 145145746 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.065-071
Текст научной статьи Металлопроизводство и социальная идентичность по материалам погребальных памятников синташтинской культуры Южного Урала
Резкое ускорение процесса дифференциации в производственной и социальной сферах начинается в эпоху палеометалла. Роль новой технологии в культу-рогенезе по общему признанию высока. Некоторые исследователи даже считают ее центральным фактором развития древних цивилизаций (см.: [Amzalang, 2009, p. 497]). Именно с этого времени погребальная обрядность иллюстрирует наряду с иными ипостасями индивида его профессиональную принадлежность, что хорошо представлено в археологических памятниках регионов, которые не характеризуются высокой социальной сложностью. Однако далеко не во всех синхронных культурах, в т.ч. существовавших на смежных территориях, обнаруживаются такие свидетельства [Бочкарев, 2010]. Попытки интерпретации погребений «литейщиков» или «кузнецов» предпринимались неоднократно (см., напр.: [Williamson, 1990; Batora, 2002; Kaiser, 2005; Черных, 2007; и др.]). Несмотря на внушительную библиографию, вопросы идентичности пока оставались на периферии исследовательских интересов. Это объясняется характером памятников, а также качеством исследований.
Современная археология активно обращается к проблемам индивидуальной и групповой идентичности в древности. Фокус исследований постепенно смещается от изучения обществ как целостных систем к изучению различных социальных групп и даже индивидов. Каждый человек ассоциирует себя с различными общественными группами. Ключевыми характеристиками при этом являются возраст, половая принадлежность, эт-ничность и культура, социальный статус, религия и род занятий [Diaz-Andreu et al., 2005, p. 1–12]. Изучение этих вопросов помогает лучше понять повседневную жизнь древних социумов. Металлургия была очень важной и нередко сакрализованной сферой деятельности в древних и средневековых обществах. Бронзовые предметы, без сомнения, высоко ценились и имели не только утилитарное, но и символическое значение. В этой связи представляется интересным, какие категории населения, люди какого возраста, пола, статуса были так или иначе вовлечены в сферу их производства? Возможность найти ответы на данные вопросы предоставляют син-таштинские погребальные памятники Южного Урала, которые характеризуются высокой вариативностью и информативностью. До 86,7 % взрослых индивидов сопровождалось металлическими артефактами, что весьма необычно для культур бронзового века Северной Евразии и косвенно указывает на значимость металлургии в сфере не только экономики, но и идеологии.
Цель нашего исследования – установить, как атрибуты металлопроизводства соотносятся с компонентами социальной идентичности, и тем самым охарактеризовать группу людей, включенных в эту сферу деятельности.
Краткая характеристика материалов
Начало эпохи бронзы на территории Южного Урала приходится на рубеж IV–III тыс. до н.э. В это время в степной зоне утверждались традиции животноводства и металлургии. Регион был центром добычи руды и производства меди. Однако ранний период представлен в основном погребальными памятниками, в которых имеются единичные свидетельства производственной специализации (литейные формы, руда) [Богданов, 2004, рис. 46, 60; Каргалы, 2005, с. 26–33; и др.]. Значительно более информативны абашевские и синташтинские древности, поскольку они позволяют о суще ствить сравнительный анализ материалов разнотипных памятников.
Синташтинские поселения и могильники, датируемые концом III – первыми веками II тыс. до н.э. [Epimakhov, Krause, 2013], хорошо известны специалистам и являются наиболее комплексно изученными среди памятников бронзового века Южного Урала. На фоне большинства культур Северной Евразии синташтинские некрополи отличаются значительной долей детских захоронений (до 70 %), сложной обрядностью и обилием инвентаря. Для целей нашего исследования последний представляет особый интерес. Он включал предметы вооружения, конскую упряжь, детали одежды, украшения, предметы быта и орудия труда. Иногда в могильную яму помещали колесницу или ее детали. В составе инвентаря обязательно присутствовала посуда.
Находки, связанные с металлопроизводством (литейные формы, фрагменты литейных чаш, каменные молоты, керамические сопла, технологическая керамика, шлаки, руда, сплески металла и т.д.), составляют заметную часть коллекций с поселений [Древнее Устье, 2013, с. 216–253; Епимахов, Молчанов, 2013; Krause, 2013; и др.]. В погребениях они также представлены (за вычетом литейных чаш и технологической керамики), хотя и в меньшем количестве.
В дальнейшем анализе задействованы все опубликованные материалы, включающие информацию о 353 погребенных (257 могильных ям, 33 кургана и два грунтовых кладбища) из могильников Синташта, Большекараганский, Каменный Амбар-5, Солнце II, Кривое Озеро, Бестамак, Танаберген II, Халвай-3, Жаман-Каргала I и т.д. [Епимахов, Берсенева, 2012, табл. 1]. Поскольку большинство индивидов было захоронено в коллективных усыпальницах, а около половины всех могильных ям потревожено, существуют объективные ограничения в диагностировании интересующих нас социальных структур, т.к. не всегда удается соотнести инвентарь с конкретным погребенным. Осложняет ситуацию отсутствие антропологических определений для ряда очень важных комплексов и полноценных публикаций по некоторым из них. Соответственно, при корреляции погребенных с сопровождающими их предметами случаи, когда принадлежность инвентаря не установлена или нет антропологических определений, будут специально оговорены.
Доля погребений с атрибутами металлургического производства не может быть оценена с абсолютной уверенностью, т.к. существует проблема критериев отбора. Если в отношении сопел и литейных форм сомнений не возникает, то при рассмотрении каменного инвентаря приходится констатировать крайнюю разноголосицу дефиниций в условиях острого дефицита трасологических определений. Вместе с тем при их наличии коллекции с синхронных поселений отчетливо демонстрируют преобладание среди каменных изделий орудий металлопроизводства и металлообработки [Коробкова, Виноградов, 2004; Кунгурова, 2013; Molchanov, 2013; и др.].
В публикациях материалов могильников нам встретились следующие термины: «терочник», «зернотерка», «абразив», «точильный камень», «шлифовальный камень», «каменная плита», «каменная ступка», «наковальня», «каменный пест» и «каменный молот». Очевидно, что часть таких орудий не была узкоспециализированной и широко использовалась в быту. Тем не менее было бы неправильно совсем проигнорировать каменные изделия, применявшиеся в металлургии и металлообработке, поэтому мы опирались на два варианта подсчетов, основанных на максимально и минимально информативных свидетельствах. Первый (список А) включает все атрибуты: литейные формы, керамические сопла, остатки руды и шлаков, слитки, капли и неопределимые фрагменты металла (лом для переплавки?), каменные песты (молоты), а также иные плохо атрибутированные каменные изделия. Второй вариант (список Б) сокращен за счет последней категории артефактов.
Если исходить из списка А, атрибуты металло-производства/обработки содержались в 44 могильных ямах из 257 (17,1 %). Захоронения представлены всеми типами – от индивидуальных до крупных коллективных. Тринадцать погребений разграблены (29,5 %), в пяти из них принадлежность инвентаря конкретному индивиду установить не удалось. Если принимать во внимание только очевидные атрибуты (список Б), то количество таких могильных ям сокращается до 27 (10,5 %). Здесь также представлены все типы захоронений, 11 ям разграблены (40,7 %), в четырех из них принадлежно сть инвентаря не ясна.
Далее попытаемся произвести корреляцию обозначенных категорий инвентаря с индивидами и установить социальную идентичность людей, которые отправились в иной мир, сопровождаемые атрибутами металлургического производства.
Атрибуты металлопроизводства как маркеры идентичности
Среди компонентов идентичности нами выбраны только доступные для изучения по антропологическим и археологическим данным.
Возрастная идентичность (взрослые/дети). В этом случае использована наиболее простая группировка по возрастным категориям, которая универсальна для разных обществ. В качестве условного порога «взрослости» принят возраст 15 лет.
Рассматривая погребения с указанными выше атрибутами согласно списку А, следует сразу отметить, что в абсолютном большинстве это захоронения взрослых. Исключением является индивидуальное детское (3–7 лет) погр. 15 кург. 4 могильника Каменный Амбар-5, где найдена миниатюрная каменная «наковальня» [Епимахов, 2005, ил. 103], правда, в заполнении. Еще два «точильных камня» обнаружены в погребениях 27 и 29 Синташтинского грунтового могильника, которые авторы раскопок считали «детскими», однако антропологическая идентификация отсутствует. Если исходить из списка Б, среди захоронений с атрибутами металлургии (27 ям) детских погребений нет.
Гендерная идентичность (мужчины/женщины). Из 44 могильных ям, соответствующих списку А, лишь для 19 имеются антропологические определения пола погребенных: шесть захоронений идентифицированы как женские (31,6 %), остальные – мужские. В трех из них (коллективные усыпальницы могильника Каменный Амбар-5) невозможно корректно установить принадлежность инвентаря, хотя один из умерших, несомненно, был мужчиной (остальные в основном дети разного возраста). По списку Б ситуация сходная: нет антропологических определений пола для 14 могильных ям из 27. Девять погребений идентифицированы как мужские (69,2 %), четыре – женские.
Теперь рассмотрим более подробно корреляцию таких достоверных атрибутов, как литейные формы, сопла и каменные молоты, с полом и возрастом индивидов. К сожалению, керамические сопла и литейные формы слабо представлены в синташтинских некрополях. Единственная литейная форма найдена в погр. 7 могильника Бестамак [Калиева, Логвин, 2009, рис. 10–12]. Она была обнаружена в индивидуальном захоронении мужчины 35–40 лет вместе с тремя керамическими соплами.
Весьма информативна в интересующем нас аспекте могильная яма 20 того же могильника [Калиева, Логвин, 2012]. Она содержала останки двух взрослых индивидов (пол, к сожалению, не установлен), каждый погребенный сопровождался жертвоприношением пары лошадей [Там же, рис. 1, 1]. В составе инвентаря, кроме многочисленных изделий из бронзы, обнаружены четыре керамических сопла, каменные плитки и песты [Там же, рис. 2]. Выглядит интригующе то, что эти предметы были размещены не вблизи погребенных людей, а рядом с лошадьми (по два сопла в каждом комплексе), т.е. входили в состав жертвенников. Умершие имели и «персональные» наборы инвентаря: погребенный в южной части могилы – два браслета, подвеску в 1,5 оборота и бусины; в северной – бронзовые шилья, бусины (27 экз.), нож и иглу, 13 слитков и сплески металла (31 экз.). По наличию украшений можно осторожно предположить, что это женские погребения. Еще два сопла вместе с кусочками шлака были найдены в погр. 1 (взрослый с неопределенным полом) кург. 5 могильника Солнце II [Епимахов, 1996] и еще одно – в коллективном разграбленном захоронении малого кургана некрополя Синташта [Стефанов, Епимахов, 2006]. Из этого же комплекса происходит несколько тальковых плит, которые, по нашему мнению, являются заготовками литейных форм.
Погребений с каменными пестами насчитывается 22. Во всех идентифицированных случаях, за исключением одного, они сопровождали мужчин (пять случаев) или обнаружены в коллективных захоронениях, где как минимум один погребенный был мужчиной (три случая). В непотревоженных погребениях песты входят в состав разнообразных наборов инвентаря и, как правило, сопровождаются теми или иными видами каменных плит, а иногда бронзовыми слитками (Бестамак, ямы 20, 170). Лишь одно такое изделие обнаружено в индивидуальном захоронении молодой женщины (Танаберген II, кург. 7, яма 20) наряду с украшениями и другими орудиями труда, что еще раз подтверждает полифункциональность каменных пестов. В погр. 170Б могильника Бестамак, где пол погребенного не удалось установить из-за плохой сохранности костей, обломок каменного песта найден вместе с парой браслетов и шилом [Логвин, Шевнина, 2013, с. 354]. Возможно, это также женское захоронение.
Кусочки руды, слитки и сплески металла встречены минимум в 13 могильных ямах (могильники Каменный Амбар-5, Бестамак, Танаберген II, Кривое Озеро и Большекараганский). Как и прочие предметы, связанные с производством металла, они входят в состав разнообразных наборов наряду с украшениями, предметами быта, оружием и орудиями труда. Лишь в одном коллективном погребении вместе с рудой обнаружены пест и каменная плита (комплекс грунтовых и курганных захоронений могильника Синташта) [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 252–256, рис. 139]. Подчеркнем, что как минимум в некоторых случаях характеристики руды не позволяют ее использовать ни в качестве красителя, ни в качестве источника металла (могильник Каменный Амбар-5, кург. 4, могильные ямы 1 и 3; кург. 2, яма 17)*, т.е. речь идет о сугубо знаковой функции этих находок.
Вертикальный статус. Синташтинские погребальные памятники не демонстрируют очевидных признаков социальной иерархии в пределах могильников**, хотя они и могут отражать только один из сегментов общества, а не картину в целом. В этом смысле приходится ориентироваться на сочетание «металлургической» атрибутики с теми категориями находок, которые обычно признаются маркерами статуса: массивным оружием (топоры и копья), колесничным комплексом, каменными навершиями булав. Нетрудно заметить, что перечисленные категории традиционно считаются «мужскими», хотя не всегда есть тому прямые подтверждения.
В пяти погребениях, соответствующих списку А, обнаружены следы установки колесниц, в 20 – какие-либо предметы вооружения, в т.ч. четыре бронзовых наконечника копья, шесть бронзовых топоров и шесть наверший булав. Если рассматривать список Б, то здесь три могильные ямы со следами установки колесниц и 11 захоронений с предметами вооружения в составе инвентаря, в числе которых три наконечника копья, четыре бронзовых топора, две булавы. Однако во всех этих погребениях маркеры вертикального статуса сочетались в основном с каменными изделиями. Единственным исключением является сочетание навершия булавы и следов колесницы с соплом и заготовками литейных форм в коллективном захоронении (пять индивидов без антропологических определений) малого кургана могильника Синташта.
Профессиональная идентичность. Фактически, инвентарь, недвусмысленно связанный с выплавкой металла (сопла и литейная форма), обнаружен лишь в четырех комплексах (Бестамак, погребения 7 и 20, Солнце II, погр. 1 кург. 5, Синташта, коллективное захоронение в малом кургане). Непотревоженными являлись лишь бестамакские погребения, но только одно из них сопровождено антропологической идентификацией. Во всех могильных ямах предметы, имеющие отношение к металлургии, были положены наряду с наконечниками стрел, булавой, псалиями, бронзовыми ножами и шилом. Жертвоприношения животных зафиксированы в трех погребениях (Бестамак, Солнце II); четвертое (Синташта) было сильно разрушено. Не будет большим преувеличением заключить, что в этих погребениях отражен род занятий умерших
(либо одного из них). Все они были взрослыми людьми, один из них уверенно определен как мужчина. Обращают на себя внимание малочисленность захоронений «профессионалов» и сочетание атрибутики металло-производства с очень разными категориями находок.
Некоторые проблемы интерпретации
Обозначенный круг тем давно находится в фокусе интересов разных исследователей, по этой причине мы со средоточимся на наиболее территориально и хронологически близких материалах. Погребения бронзового века Восточной Европы и Западной Сибири дают вполне представительную, хотя и не очень массовую серию находок. Наличие обзоров избавляет от необходимости дублировать эту информацию. Получившие распространение в ямной и катакомбной культурах (III тыс. до н.э.) погребения «литейщиков» были не единственными захоронениями с производственным инвентарем, например, есть погребения мастеров по изготовлению стрел. Традиция хорошо документирована в более поздний период не только в анализируемых синташтинских памятниках, но и в абашевских [Халиков, Лебединская, Герасимова, 1966; Халяпин, 2005], сейминско-турбинских [Матю-щенко, Синицина, 1988, рис. 11, 36–38, 42, 52; Сатыга, 2011, c. 12, рис. 2.5–2.6; и др.]. Хронологически они близки (конец III – начало II тыс. до н.э.), часть из них имеет следы взаимных контактов носителей данных культур. Однако разница в облике основных культурных черт существенна, да и о территориальном единстве говорить трудно.
Следы полного цикла металлопроизводства хорошо документированы на абашевских и синташ-тинских поселениях. Очевидно, что эта отрасль базировалась на местных ресурсах, хотя степень ее специализации оценить трудно. Абашевские захоронения с достоверными свидетельствами профессиональной специализации, как и синташтинские, единичны. Примечательно, что следующий период бронзового века, представленный очень крупными срубными и андроновскими могильниками, не наследует традицию таких погребений [Бочкарев, 2010]. Даже в зонах, заведомо связанных с добычей руды и выплавкой металла, таковых практически нет [Кар-галы, 2005, с. 49–124; Ткачев, 2012а, б]*.
Западно-сибирские материалы бронзового века также хорошо иллюстрируют традиции металлопроиз-водства, хотя в погребальных памятниках свидетельства специализации в данной сфере (нередко в сочетании с военной атрибутикой) тяготеют к сейминско-турбин-ским и близким по времени и территории одиновским и кротовским древностям [Молодин, 1983]. В последующие века II тыс. до н.э. картина резкого сокращения этих свидетельств в погребениях (но не в целом) сходна с восточно-европейской и урало-казахстанской.
Трудности интерпретации археологических данных стимулировали интерес к этнографическим источникам, основная часть которых, правда, связана с металлургией железа. Социальные аспекты металлопроиз-водства в традиционных обществах, как и организация процесса от стадии добычи сырья до этапа обмена/ продажи, попали в фокус совместного внимания этнографов и археологов не так уж давно [Schmidt, 1989; Weedman, 2006, p. 269–270]. Среди археологов широко распространена идея (выдвинута Г. Чайлдом), что древние металлурги имели высокий статус благодаря своим специальным знаниям, которые также носили сакральный характер (см.: [Hølleland, 2010, p. 32]). Однако этнография и история дают различные примеры. В некоторых африканских обществах «кузнецам» запрещалось принимать пищу и пить вместе со своими соседями, они жили за пределами поселения, и кланы металлургов часто были эндогамными [Williamson, 1990]. На другом конце спектра можно найти высокоспециализированных ремесленников, занимавшихся художественным литьем в городах Древнего Египта или Ближнего Востока. Но и здесь их статус соответствовал статусу ремесленника, т.е. был далеко не самым высоким. Таким образом, не существует кросс-культурных закономерностей, априори ставящих «металлургов» на высшие ступени социальной лестницы.
Гендер людей, связанных с производством металла в традиционных обществах, до недавнего времени также не обсуждался, изначально предполагаясь мужским. Действительно, письменные источники, древние изображения и этнографические отчеты демонстрируют абсолютное доминирование мужчин в этой сфере, предполагающей наличие, помимо знаний и умений, также физической силы. Однако более целенаправленные эт-ноархеологические исследования в Африке показали: женщины и дети принимали участие в подготовительных мероприятиях и некоторых стадиях процесса, таких как подготовка руды и сбор топлива [Weedman, 2006, p. 269]. Нет оснований отрицать, что женщины не являлись главными участниками металлопроизводства, но их деятельность была важным вкладом в выплавку металла в ряде сообществ. Особенно это касалось относительно небольших коллективов, где металл производился для собственного потребления и, возможно, сезонно.
Наконец, следует упомянуть и о письменных источниках, которые по понятным причинам не имеют прямого отношения к проанализированным конкретным материалам и могут быть использованы только для самых общих заключений. Они отражают мифологические системы Евразии (начиная с III тыс. до н.э.), возникшие в рамках очень разных социально-экономических институтов. Несмотря на это, объединяющим моментом оказалось значительное преобладание упоминаний такой категории, как «кузнец», и соответствующей лексики* в сравнении с представителями иных профессий [Вальков, 2013, с. 279–280]. Для конкретизации данного вывода в части интересующих нас компонентов идентичности требуются дополнительные исследования.
Выводы
Обзор источников, анализ этнографических и исторических данных, демонстрирующих огромную вариабельность, приводит нас к мысли, что выводы о социальной идентичности производителей металла должны формулироваться только на базе анализа контекста и применительно к конкретным ситуациям. Наличие поселений и могильников синташтинской культуры позволяет сопоставлять овеществленные проявления социальной жизни ее носителей. В целом можно констатировать, что персональная идентичность была, безусловно, маркирована с помощью орудий труда, связанных с металлургическим процессом. К сожалению, на данный момент мы не располагаем прямыми доказательствами участия индивидов в этом процессе, каковые получены в ходе изучения костных остатков носителей других культур бронзового века (см., напр.: [Добровольская, Медникова, 2011]). Вместе с тем наличие собственного металлопроизводства не подлежит сомнению, значит, были и люди, участвовавшие в нем. Вопрос лишь в том, каков состав этой группы и насколько она была дифференцирована в пределах социума.
Проведенный анализ демонстрирует, что с точки зрения возрастной структуры мы предсказуемо имеем дело почти исключительно со взрослыми. Однако их половая принадлежность не была жестко определена: при общем доминировании мужчин есть достоверная доля женщин. Погребенный с литейной формой – мужчина, песты также лучше представлены в мужских погребениях. Однако руда найдена и в мужских, и в женских захоронениях. Погребение с комплексом украшений (Бестамак, яма 20), несмотря на отсутствие антропологических определений, может подтвердить тезис об участии женщин в металлургическом процессе, как минимум на некоторых его стадиях. Во всяком случае, жестких ритуальных ограничений на приобщение женщин к «огненному ремеслу» нет.
*Этот условный термин в данном случае объединяет все виды деятельности горняков, металлургов и мастеров по обработке металла [Вальков, 2013, с. 242].
Еще более размыты границы группы в рамках вертикальных статусных градаций, т.к. сочетания категорий инвентаря очень разнообразны. Уверенно можно говорить об отсутствии дискриминации по принадлежности к сфере производства. С одной стороны, включение манифестаций металлургии в сакральную сферу свидетельствует скорее о ее престижности, с другой – вполне очевидно, что она была менее акцентирована в погребальной обрядности, чем, например, военное дело, которое обычно уверенно соотносится с элитным комплексом. Само по себе включение производственных атрибутов в число признаков элиты вовсе не так невероятно, как может показаться на первый взгляд. Сакрализация труда надежно зафиксирована для более сложных обществ, чем синташтинское [Авилова, 2011]. Однако в нашем примере необходимо учитывать сравнительно небольшие демографические параметры коллективов и слабую социальную дифференциацию. То и другое соотносится с масштабами производимого продукта через потребности социума (повседневные и/или престижные) и, как следствие, значением ме-таллопроизводства в глазах членов коллектива. В этой связи напрашивается заключение о том, что данные занятия были уделом немногих индивидов или малых групп*, которые не были строго обособлены от других членов сообщества в реальной жизни и ритуальной сфере. Профессиональная принадлежность являлась одним из многих, но не главным основанием персональной и групповой идентичности.
Список литературы Металлопроизводство и социальная идентичность по материалам погребальных памятников синташтинской культуры Южного Урала
- Авилова Л.И. О символике металлических реплик орудий труда по материалам Ближнего Востока эпохи бронзы // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: История и политические науки. - 2011. - № 1. - С. 87-95
- Богданов С. В. Эпоха меди степного Приуралья. - Екатеринбург: УрО РАН, 2004. - 287 с
- Бочкарев В. С. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр) // Бочкарев В. С. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. -СПб.: Инфо Ол, 2010. - С. 209-211
- Вальков Д. В. Представления о «мастерах» в некоторых мифологических системах Евразии // Экспериментальная археология: Взгляд в XXI век: мат-лы полевой науч. конф. -Ульяновск, 2013. - С. 237-283.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: Археологический памятник арийских племен Урало-Казахстанских степей. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. - Т. 1. - 408 с.