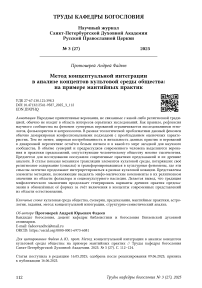Метод концептуальной интеграции в анализе концептов культовой среды общества: на примере мантийных практик
Автор: Протоиерей Андрей Фадеев
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Народные примитивные верования, не связанные с какой-либо религиозной традицией, обычно не входят в область интересов серьёзных исследований. Как правило, рефлексия научного сообщества на феномен суеверных верований ограничивается исследованиями этнологов, фольклористов и антропологов. В рамках теологической проблематики данный феномен обычно демаркирован конфессиональными подходами с преобладанием оценочных характеристик. Тем не менее, широкая востребованность и витальность данных практик и верований в диахронной перспективе остаётся белым пятном и в какой-то мере загадкой для научного сообщества. В объёме суеверий и предрассудков современного человека выделяются верования и практики предсказаний, сопутствующие человеческому обществу многие тысячелетия . Предметом для исследования послужили современные практики предсказаний и их древние аналоги. В статье показан механизм трансляции элементов культовой среды, потерявших своё религиозное содержание (смыслы) и трансформировавшихся в культурные феномены, где эти смыслы латентно продолжают интерпретироваться в рамках культовой новации. Представлены элементы методики, позволяющие выделять мифо-магические компоненты в их религиозном значении из области фольклора и социокультурного наследия. Делается вывод, что традиция мифологического мышления продолжает генерировать варианты древних практик предсказания в обновлённых её формах за счёт включения в концепты современных представлений из области естествознания.
Культовая среда общества, суеверия, предсказания, мантийные практики, астрология, гадания, метод концептуальной интеграции, структурно-семиотический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/140312232
IDR: 140312232 | УДК: 27-67:130.121:398.3 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_112
Текст научной статьи Метод концептуальной интеграции в анализе концептов культовой среды общества: на примере мантийных практик
About the autor: Archpriest Andrey Yurievich Fadeev
Candidate of Theology, Associate Professor of Department of Bible studios and Theology Penza Theological Seminary.
Введение. Обзор мантийных практик древности
Традиционно весь объём мантийных практик подразделяется на естественные и индуктивные (искусственные). Естественные практики берут своё начало в личностных переживаниях, прежде всего с помощью снов, и простираются далее в область экстатических состояний и «божественного» вдохновения. Индуктивные мантии предполагают некое аксиоматическое условие, согласно которому духи или боги имеют возможность с помощью некой семиотики сообщать смертным элементы Провидения1.
Термин мантика (мantike, от греч. mainomai) означал буквально «буйствовать, входить в экстаз», предсказывать, прорицать. Некоторые антропологи и этнографы полагают, что практика гаданий (лат. divinatio) сопутствовала человеческой истории и корни её теряются у истока жизни человечества.
Самой значимой и широко распространённой практикой предсказаний, несомненно, является астрология. Существенное отличие астрологии от других мантийных практик в том, что она не использует каких-либо дополнительных материальных атрибутов (таких как карты, внутренности животных, траектория полёта птицы, гуща кофе), кроме небесных тел. Астрология, своего рода наукообразная тень астрономии, в отличие от родственных ей мантийных практик (гадание по руке, поведению или внутренностям животных, карты и кофейная гуща) апеллирует к области рационального, используя современные приборы и методы исчислений своей эпохи. Легенды и мифы народов нашей планеты, персонажи которых спроецированы на небесные объекты, составляют мощный пласт человеческой культуры. Небо и звёзды, оставаясь тайной, населялись близкими и понятными персонажами космогонических мифов и, позже, сказаний. Астрология — комплекс теорий и концептов интерпретации, в которых коррелируется местоположение и движение небесных тел с событиями объективной реальности сообществ или конкретного человека. Предсказания в отношении народов, цивилизаций, государств или других социальных общностей принято называть мунданной (социальной) астро-логией2. Предсказания в отношении частного лица — персональной (юди-циарной) астрологией. Уверенность в действенности астрологии базируется на «точных математических расчётах», в которых уверены и сами астрологи, и их клиенты, однако это устойчивое заблуждение. На самом деле известно, что планеты находятся в созвездиях различные периоды времени. При этом, точка весеннего равноденствия, которая является началом отсчёта, не является неподвижной, а смещается по эклиптике с оборотом в 26.000 лет. Необходимо отметить, что само деление совокупности звёздного неба на определённые символы и их области довольно условно и в разные эпохи существенно различалось3. Данное обстоятел ьство влечёт за собой смещение положения
Солнца в секторе каждого знака за период в 2.000 лет на 1/12 (т. е. на один знак Зодиака). Фактически известно о 13-ти созвездиях астрологии, но созвездие Змееносца консенсуально игнорируемо в астрологических прогнозах. Шесть дней пребывания Солнца в спектре Змееносца (вместе с судьбами родившихся) просто выпадает из самой «точной» и древнейшей системы расчётов. Каждому созвездию и совокупности звёзд, входящих в его поле (но не включённых в него), приписывается воздействие, сходное с воздействием одной или нескольких планет (чаще всего двух). Невероятная популярность астрологических прогнозов заложена в их исключительно позитивном профетизме, который используется в качестве психологического компенсатора или, лучше сказать, стабилизатора на какой-то период времени4.
Древнейшая форма астрологии возникла в Шумере (III тыс. до н. э.) в качестве глобальных предсказаний в отношении исторических событий — засухи, эпидемии, вой ны, природных катаклизмов. Мунданная астрология, создав календарные циклы, позволяла согласовывать и планировать хозяйственную деятельность первых цивилизаций с оседлым образом жизни.
Храмовые жрецы Вавилона и Ассирии были обязаны периодически составлять для царского двора отчёты с толкованием небесных явлений5. В стенах университетов Падуи и Парижа существовали кафедры астрологии, а традиционная должность придворного астролога сохранялась в Западной Европе вплоть до XV в.6 Синтез мантийных практик Востока и рационализма Запада некоторые учёные связывают с эпохой завоеваний Александра Македонского (IV в. до н. э.), когда избыток эмпирических данных астрогнозии был воспринят абстрактным мышлением греческого гения7. Формирование астрологических норм в Древней Греции также подверглось влиянию египетской культуры. Однако египетская астрология, в отличие от восточной, в основном базировалась на изучении неподвижных небесных светил (звёзд). Данная особенность позволила египетским жрецам выделить 12 созвездий по числу месяцев, находящихся на годовом пути Солнца. Эти созвездия в египетской традиции получили символические названия, связанные с животным миром (буквально, Зодиак означает «круг животных»). Греческий зодиак претерпел некоторые изменения и был адаптирован к персонажам и событиям собственной мифологии.
В греческой традиции объёмный трактат «Математическое построение» (Mathematike Syntaxis) Клавдия Птолемея8 с кратким наименованием «Синтаксис» (в арабской традиции «Альмагест») был актуален на протяжении тринадцати столетий. Сборник содержит подробную математическую основу геоцентрической системы мира, согласно которой Земля — центр мироздания. Основой исчислений послужили астрономические таблицы Гиппарха, опиравшегося на греческие и вавилонские источники9. Кодекс «Синтаксиса» расширялся ещё четырьмя книгами «Tetrabiblios» (Четырёхкнижие), в которых автор представил общую теорию о влиянии небесных тел на земные события: «…некая сила испускается и распространяется из вечного мирового эфира на всё, что окружает Землю…»10 Таким образом, ключевыми положениями астрономической системы Птолемея, и, соответственно, астрологической системы всех эпох являются следующие допущения:
-
— Небосвод — вращающаяся сфера,
-
— Земля — шар в центре мироздания,
-
— Размер Земли бесконечно мал в сравнении с расстоянием до сферы (неподвижных звёзд),
-
— Земля неподвижна.
Утратив своё положение в Европе в начале Средних веков, астрономия и астрология вернулись из исламского мира (IX–XII вв.) в качестве переводов и комментариев на «Четверокнижие» Клавдия Птолемея под авторством альХорезми, аль- Баттани и ас- Суфи, пополнивших терминологический аппарат новыми арабскими словами — азимут, алгебра, зенит, Альтаир и др. Стоит заметить, что современная астрология, опираясь на период своего расцвета в конце Средневековья, вынужденно остаётся в рамках птолемеевского геоцентризма, спорадически мимикрируя к новым гелиоцентрическим положениям. Аксиоматический допуск центрального положения Земли в астрологических расчётах по умолчанию используется всеми современными предсказателями. В определённые периоды развития научного знания астрологический материал был необходимым инструментарием познания мира и вполне коррелировал с рациональными методами. Этот процесс был постепенным — от астролатрии (культа светил), через астромагию (преднауку) к собственно астрономической науке. Таким образом, астрологические концепты любой эпохи по содержанию включает в себя два основных компонента — мифопоэтику древней мифологической картины мира и античную космологию эпохи Птолемея. Данный тезис разделяет отечественный исследователь И. Касавин: «Рассматривая себя как техническую дисциплину, астрология отрицает саму себя. Ее задача — в магической мобилизации всего окружающего космоса и соединении мифа и мистической практики, с одной стороны, и математики, астрономии, космобиологии, с другой»11. В качестве научной картины мира мы имеем в виду космологию Аристотеля («Физика» и «О небе») с её основными характеристиками: геоцентризм, наличие космического эфира и гипотеза о первичных подлунных элементах (воздух, вода, почва и огонь). В трактовке Клавдия Птолемея, переложившего античную космологию в область астрологии, первичные элементы этого мира обладают определёнными парными качествами: тепла и влажности, холода и сухости. Данные качества распространяются на планеты и знаки Зодиака. В «Тетрабиблосе», например, Солнце, как основной источник тепла и сухости проецирует свои качества в область антропоморфных характеристик гордости, достоинства, мощи и славы Аполлона12. Именно эти характеристики проецируются на конкретного человека или сообщество (дата, события, возраст, части тела, здоровье, локации, погода, минералы, металлы, цвет, запах, чувства, цифры) и интерпретируются в рамках сопоставления с другими планетами или созвездиями благодаря динамическим характеристикам, заимствованным также из античной мифологии в отношении знаков Зодиака (свойств существ их обозначающих).
Опираясь на математические исчисления, прогнозирование и предсказания сместились в область точной науки, которая нашим современникам более известна под названием нумерология. Истоки математического ведовства относятся к свойствам четных и нечетных чисел в египетских исчислениях. Комбинации и математические действия с «таинственными» числами 3, 7 и 9 позволяли определять продолжительность жизни, её периоды и точки кризисов, названные климатерическими. Астральная теология, мифология и магические практики у жителей Междуречья Тигра и Ефрата уже в третьем тысячелетии выделяла значение числа 7 в качестве планетарной полноты. Наиболее популярным стал «арифметический» способ гадания, когда имя человека записывалось числовым значением, что позволяло путём математических действий делить полученные суммы на магические числа 7 или 9 и предлагать варианты событий, сосредоточившись на остатке деления. Со временем математические предсказания развились в более сложные системы исчислений и стали дополнительной методикой в астрологии. С помощью «арифметического» метода в имени человека находились дополнительные сведения в его натальной карте (дата рождения или зачатия). Сочетание геометрии с арифметикой и анимизмом послужило появлению геомантики , в рамках которой известный порядок на Земле обеспечивается небесными светилами13. Также в рамках нумерологии следует упомянуть о практике гадания по жребию с помощью игральных (гадательных) костей. Термин «кость» имеет исторические корни, т.к. обозначает буквально «астрагал» — таранную кость из лодыжки парнокопытных животных с раздвоенными копытами. Очертания астрагала напоминает параллелепипед с обточенными рёбрами и цифровыми значениями на продольных сторонах. Современный игральный кубик сохранил цифровые знаки и нумерологические нормы древнего астрагала: сумма двух противоположных сторон должна иметь значение 7. Двойное предназначение астрагала в качестве игрового и мантийного атрибута подтверждается данными о культе Гермеса, где астрагалы использовались в играх «на удачу» и успех зависел от покровительства этого бога.
Мантийная практика гадания по картам известна в Италии с XI в. Наиболее популярным подвидом карточного гадания в настоящее время являются карты Таро (тарок), колода которых включает 78 карт. Магический принцип герметизма «что наверху, то и внизу» связывает все процессы во Вселенной в строгую холистическую созависимость в рамках причинно-следственных событий. В XVII в. в системе Таро «Высший Аркан» (22 козырные карты) начинает связываться со знаками Зодиака и планетами, а колода делится на 12 групп в соответствии с небесными домами астрологии. Масти простых 56 карт («Младший Аркан») отождествляются с астрологическими стихиями: булавы (трефы) с огнём, бубны (монеты) с землёй, черви (кубки) с водой, пики (мечи) с воздухом. Цвет масти становится женским или мужским, как и в птолемеевской астрологии. В рамках каббалистической астрологии 22 карты «высшего Таро» связаны с соответствующими главами христианского Апокалипсиса, что делает данную мантийную практику подвидом кледономантии с заимствованиями религиозных элементов в мифологический контекст.
Пожалуй, гадание по снам есть наиболее признаваемое и широко распространённое явление, сопутствующее всей истории человечества. В современном информационном пространстве онейромантика представлена в виде широкого спектра различного вида «сонников» в интернет-пространстве и в печатной продукции газетных киосков. Явление богов во сне было вполне несомненным и реальным способом богообщения. Геродот в своей «Илиаде» пишет, что сны «исходят от Зевса», источника провиденциальной силы, но проводником сновидений выступает всезнающий Гермес, способный усыплять прикосновением жезла. Уже у Гомера мы встречаем упоминание о неоднородности снов: большее значение имеют утренние сновидения (Одиссея, песнь 4, стих 841)15. Апулей считал, что обильная пища предшествует гибельным сновидениям, а алкоголь мешает видеть истину в сновидениях. Пифагорейцы исключали из рациона бобовые, чтобы не видеть искаженные сновидения, а Плутарх рекомендовал по этой же причине избегать употребление осьминогов. Давление на область печени во время сна также влияет на качество сновидений в греко-римской традиции, поэтому положение тела в ночное время в онейро-мантике строго регламентируется. Атмосферные явления и время года также вносят свои коррективы в ясность полученных сновидений, по мнению Демокрита16. Уровнем ниже, в качестве народных верований, наличие амулета и магические формулы также становятся гарантами правдивости сновидений для древних греков. Магическое восприятие реальности не останавливается на уровне фольк-религии и трансформируется в магико-ритуальные формы, предполагающие целенаправленное получение откровений в состоянии сна благодаря подготовительным действиям, таким как пост, воздержание, мо-литвословия и внешняя обстановка, культовые атрибуты. Преднамеренный сон теперь можно вызывать у конкретного человека благодаря подготовительным действиям магического характера. Подобная практика известна под названием «инкубации» оракулов, и производилась она даже в рамках храмовых ритуалов и на могилах умерших людей. В подобной форме онейромантия смещалась в область некромантии, где акторами откровений выступали души усопших «героев» и соплеменников. Традиция толкования снов в Древней Греции заимствована из египетских и восточных преданий. Подобная практика названа французским историком Огюстом Буше-Леклерком античным термином «онейрокритика». Снотолкование сформировалась в исторической перспективе многих веков благодаря уличным гадателям, встречающимся повсюду возле храмов и на площадях. Подобное явление было своего рода народной верой первого уровня, оппозицией, которая не противопоставляла себя храмовым оракулам, а дополняла их вдохновенные откровения. Толкование сновидений настолько волновало общество, что не могло ограничиваться лишь интерпретациями уличных «ремесленников». Уже Гиппократ составил типологию сновидений, которые имели отношение к предсказательной медицине. Самым известным трудом в области толкования снов является пятикнижие «Онейрокритик» Артемидора Далдианского из Эфеса (II в.), который собрал сведения у оракулов и «шарлатанов», посетив с этой целью Азию, Грецию и Италию. Можно считать этот труд не просто первым «сонником» античности, но методологическим пособием и систематизацией толкований.
Снотолкователь должен не только знать символический язык своего искусства, но и обладать знаниями из области истории и мифологии, «чтобы толковать исторические и мифологические напоминания и намёки»17. Таким образом, можно констатировать, что одна из древнейших культовых практик в своей методологии соединяет элементы истории, мифологии и психологии человека, которые с помощью логических приёмов (умозаключения по аналогии) становятся средствами прорицания и побуждением к определённым действиям.
Довольно условная граница разделяет практику толкования сновидений и некромантику. Для пересечения границы достаточно получить ответы во сне на житейские вопросы реальности от умершего человека. Из античности известна практика (закреплённая в эпических и драматических литературных произведениях) получения сновидений с помощью сна на гробницах. Очевидна разница между практикой храмовой инкубации в её подготовительных этапах и практикой получения вещих снов на могилах. Термин некромант используется в английском тексте Ветхого Завета (Библия Короля Якова), где в известном отрывке Второзакония говорится о запретах прибегать к услугам прорицателей и «вопрошающих мёртвых» (Втор 18:9–12). В валлийском эпосе «Мабиногион» (XI–XII вв.) упоминается ритуальный предмет (котёл) с функцией возвращения мёртвых (Сага второй Ветви Мабиноги о Бранвене, дочери Ллира)18. В ирландских сагах подобное приспособление уже наделяется способностью вызывать сотни умерших воинов, создавая армию «зомби», которые воспринимались вполне позитивно и как правило сражались на стороне положительных героев. Фольклор Дании, Норвегии и Швеции имеет множественные упоминания о драуграх — восставших мертвецах, дававших пророчества о будущем.
В Первой Книге Царств описан ритуал некромантии, буквально повторяющий действия Одиссея. Аэндорская ведьма также использовала яму с разведённым огнём и кровь жертвенных животных (1 Цар 28:3–25). Интересен тот факт, что сама ведьма удивлена результатом своих действий по отношению к умершему ветхозаветному пророку Самуилу.
Элементы некромантики до сих пор спорадически становятся актуальными в тех или иных реконструкциях культовой среды: зомби, вампиры, культ вуду, бразильская макумба, японская практика призыва юрей, классический европейский спиритизм XIX–XX вв., многочисленные клиентурные культы медиумов, ченнелинга и контактёрства. Учитывая то, что практика некромантии использует не вполне очевидные образы посредством вызывания теней (образов), похожих на определённую персону, нечленораздельные звуки или ограничивается контактом в виде сна, французский историк Огюст Буше-Леклерк (1842-1923) относит некромантику к разряду онейромантики19. Довольно ясно просматривается преемственность первобытного анимизма, спроецированного на культ предков в разных исторических и культурных традициях: шаманский транс, экстатические состояния пифий, откровения древних оракулов в состоянии магического транса, несвязанные бормотания хресмологов различных мастей (в том числе легендарных сивилл), спиритуализм и столоверчение, ченнелинг и практики медиумов.
Практики гадания на основе движений или особенностей поведения животных базируются на аксиоматическом отождествлении инстинкта и божественной провиденции20. Место обитания животного или птицы обеспечивает ему более высокое положение в иерархии мантийных практик. Птицы (орнитомантика) занимают высшую страту, чуть ниже четвероногие, затем пресмыкающиеся и на самом нижнем ярусе рыбы. В свою очередь, в практиках орнитомантии хищные (плотоядные) птицы занимали наиболее почётное положение и нередко именовались вещими птицами благодаря их способности употреблять жертвенную плоть, в особенности внутренние органы жертвенных животных. Печень животного имела особое положение в гадательных практиках, что отражено в классической мифологии (Прометей)21. Характер полёта и крика, положения тела птицы при приземлении или действия — всё это становилось областью семиотического вещания божества для человека. Для увеличения вариативности практика ауспиций соединялась с другими мантиками. Так, например, описаны практики алекторомантии, в которых в начертанный круг с секторами и буквами (клеромантика) клались зёрна и по порядку движения петуха читались имена и действия.
Пожалуй, самым древним и широко распространённым видом антропного предсказания является кледономантия, когда слово, фраза или восклицание (кледон) наделяется наличием связи с ожиданиями гадающего актора. Чем сильнее степень демаркации между гадающим и объектом предсказания, тем более правдоподобно само предсказание. Этимологическое толкование имени, случайно открытый текст, первое услышанное слово, толкование слов из сновидения — все эти примеры и многие другие наглядно показывают логику мантики: наличие интенции божества или духа в отношении человека и его жизненных обстоятельств в сферу семиотических значений, односторонне определяемых самим человеком. Другими словами, произвольное проецирование из сферы трансцендентного в область случайных событий естественного. Как уже было показано ранее, данный механизм проецирования происходит в рамках концептуальной метафоры или метонимии, а затем значения расширяются за счёт семантических рядов. На сходных принципах основывается и гадание по произвольным физиологическим явлениям, таким как чихание, судороги (дрожание век), шум в ушах, зуд в ладони. Соответственно, коннотация физиологического раздражения зависела от стороны органа в теле человека (справа или слева, сверху или снизу). Позитив или негатив предсказания обеспечивался исходной бинарной оппозицией мифо-магического восприятия.
Метод когнитивного конструирования мантийных практик
Таким образом, мы можем сделать некоторые обобщения в отношении мантийных практик в объёме культовой среды общества. Те из них, которые стабильно в диахронной перспективе транслируются без изменений, следует отнести к нерефлексируемой части культовой среды. Это прежде всего манти-ки, однажды соединившие в себе естественно-научные представления (предна-учное знание прежних эпох) и мифологические элементы древности. К ним относятся: хиромантия, ауспиции (орнитомантия), некромантия, онейромантия, клеромантия, нумерология, гидромантия, пиромантия, литомантия, утробога-дание. Перечисленные практики сохранили однажды возникнувшую модель профетизма благодаря умозаключению по аналогии. В основе данной аналогии лежит аксиоматическое допущение о том, что боги (духи) имеют интенцию к семиотическому профетизму в отношении смертного человека. Другими словами, существует предварительное согласование семиотических свой ств на эмпирическом уровне между трансцендентным и имманентным, — свойства предмета или явления тождественны тем значениям человеческого сознания, которые вкладывает в него провиденциальный божественный актор. Древние мантийные практики проецировали онтологические характеристики из области мифа в область естественной среды обитания человека и сохранили данный принцип без изменений на протяжении тысячелетий.
В настоящее время данные практики довольно редко используются на бытовом уровне, но спорадически находят своих приверженцев в тех или иных формах культурной памяти. Чаще данные древние мантики проявляются в «остаточных» формах в виде суеверий, страхов (табу)22, народных приметах, фольклорном дискурсе, сказках и былинах. Для примера можно сопоставить практику современных «контактёров» (ченнелинг, спиритизм) с древней некромантией. В обоих случаях контактёр предполагает наличие некоего духовного мира, населённого душами умерших людей или мифологических сущностей, которые имеют профетический потенциал. Мавзолеи древних мифических героев (могилы предков), на которых проходили инкубации, в современных реалиях заменяются на дольмены, кромлехи, пирамиды и другие сакральные локации. Реже поводом для контакта является наличие какой-либо вещи умершего или некий семиотический принцип, способный вызвать из потустороннего мира необходимую персону. Результатом контакта становятся экстатическое состояние транса (или полутранса), изменение тембра голоса, неестественная мимика и пантомимика, считывание информации по принципам клеромантии (буквенные значения), элементы нумерологии, известные и описанные в древних источниках. Необходимо отметить, что социокультурные коррективы вносят некоторые новации, но, тем не менее, древняя модель мифологического проецирования сохраняется в исходном варианте.
Заключение
Таким образом, достаточно явно прослеживается когнитивный механизм (модель), в рамках которого были созданы в сознании человека мантийные практики. На онтологические признаки из естественной среды обитания (одушевленных или неодушевленных атрибутов) проецируется некий набор характеристик из области трансцендентного (священного, божественного, сакрального) в целях восполнения объясняющего потенциала (грядущего, настоящего или прошлого). Очевидно, что гносеологический мотив не ограничивается исключительно областью страха перед будущим, но скорее лежит в плоскости мифологического Провидения и желания соответствовать ему (гармония).
Необходимо отметить важную деталь нашей гипотезы. Конструирование объясняющей модели начинается исключительно в области естественных процессов реального мира неважно в какой области (антропология, одушевлённая или неодушевлённая природа). Мотиватором является гносеологическая потребность индивида любой эпохи в отношении явлений и процессов окружающего мира. Объясняющий потенциал при нехватке или отсутствии данных естественно-научного характера восполняется заимствованиями из другой реальности (мифологической, религиозной или метафизической). Данные когнитивные процессы наиболее полно раскрыты в рамках когнитивной лингвистики с помощью методики концептуальной интеграции . Основное свойство ментального пространства концепта — наличие наряду с явной информацией скрытой, латентной, подразумеваемой. Заимствование онтологических категорий из ментального пространства мифологической картины реальности в слот ментального пространства естественно-научной реальности позволяет наполнить его объясняющим потенциалом для наблюдаемого явления.
В качестве примера подобного «встраивания» онтологических характеристик соседствующих реальностей на уровне категорий могут послужить модели многочисленных мантийных практик древности и современности. Например: семиотические значения в хиромантии соединили астрологические принципы с индивидуальными физиологическими особенностями (линии на ладони, характеристики их пересечения). В данном случае в основе объясняющей модели лежит строение элементов тела человека со спроецированными на него мифологическими характеристиками планетарных божеств и их нравственными или природными качествами, заимствованными из мифологических нарративов.
Важно заметить, что в отличие от магии, где проекция характеристик происходит из реального в ирреальное, в мантиках данный процесс имеет два направления: сначала характеристики объекта предсказания сопрягаются с значениями мифа и лишь после этого действия возможен сам акт предсказания — проекция мифологических характеристик на объект. Чаще такая проекция реального уже закреплена в неких аксиологических константах мифопоэтики.
В методике астрологических прогнозов явно прослеживается заимствование мифических элементов в характеристиках планет Солнечной системы и связываемых с ними божеств. В данном случае поведенческие (моральные) и онтологические характеристики божеств переносятся в область природных явлений в качестве объясняющего потенциала происходящих изменений и явлений. Неведомые силы природного характера, неизвестные древнему астроному, заменяются на онтологические характеристики мифологических героев, спроецированные на созвездия или планеты небесного свода.