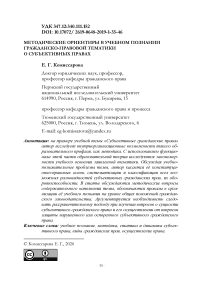Методические ориентиры в учебном познании гражданско-правовой тематики о субъективных правах
Автор: Комиссарова Е.Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
На примере учебной темы «Субъективные гражданские права» автор исследует внутриорганизационные возможности такого образовательного профиля, как методика. С использованием функционала этой части образовательной теории исследуются закономерности учебного освоения заявленной тематики. Обсуждая учебно-познавательные проблемы темы, автор касается её конституционно-правовых основ, систематизации и классификации всех возможных разновидностей субъективных гражданских прав, их оборотоспособности. В статье обсуждаются методические вопросы содержательного наполнения темы, обозначаются провалы в организации её учебного познания на уровне общих положений гражданского законодательства. Аргументируется необходимость следовать разграничительному подходу при изучении вопросов о сущности субъективного гражданского права и его осуществлении от вопросов защиты нарушенного или оспоренного субъективного гражданского права.
Учебное познание, методика, статика и динамика субъективного права, виды гражданских прав, осуществление права
Короткий адрес: https://sciup.org/147230055
IDR: 147230055 | УДК: 347.12:340.111.152 | DOI: 10.17072/2619-0648-2019-1-35-46
Текст научной статьи Методические ориентиры в учебном познании гражданско-правовой тематики о субъективных правах
О дним из традиционных ключиков к решению содержательных проблем учебного познания являются понятия методического слоя. В их числе методы, приёмы, формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Заключая в себе эти составляющие, методика обучения тесно связана с его целями. В своем аккумулированном виде эти цели сегодня представлены в качестве общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе учебы. Любой государственный образовательный стандарт высшего образования выводит на эти итоги образовательного процесса.
Благодаря компетентностным характеристикам, в значительной мере приспособленным к современному образованию, вопрос «чему учим» выглядит окончательно решенным. Тогда как не менее важный вопрос, уже методического свойства, о том «как учим» во многом остается постигнутым на уровне сложившихся стереотипов. На примере учебной темы о субъективных
_________________ ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО гражданских правах автор намерен обозначить эти стереотипы, большинство из которых несёт на себе печать отставания образовательных методик от ушедших вперед теоретических и практических представлений о субъективных гражданских правах как центральном гражданско-правовом институте.
Законодательная и теоретическая конструкция субъективного гражданского права в постмодерновом праве стала первоосновой для построения целых систем законодательных понятий и правовых явлений. Отсюда без преувеличения можно утверждать, что смысл и значение используемого в гражданском законодательстве понятийного аппарата и институтов частного права вращаются вокруг этого базового элемента гражданско-правового регулирования. Однако, как показывают образовательная тактика и ее итоги, студенческий ум в познании этой темы идет не от теории, раскрывающей феноменологию субъективного гражданского права, а в большей степени от «охранительных» представлений о них, которые связаны с нарушением пределов его реализации и со случаями нарушения (оспаривания) субъективного права. Такой подход мало соотносим с конституционными установками, международными нормами и теми законодательными идеями, которые в качестве базовых заложены в начальных нормах Гражданского кодекса РФ (п. 3, 4 ст. 1, ст. 2, 6, 9, 10).
Взгляд на то, что можно изменить, дополнить, развить и усовершенствовать в рамках методики изучения темы, автор излагает ниже, призывая не рассматривать настоящую статью как некое покушение на академические свободы вузовских трудолюбов. Ведь академически свободная личность нуждается и в соратниках, и в объективной оценке своей академической линии, да и просто в разумной корректировке того знания, которое привносится в образовательное пространство. Надо признать, что траектория его движения обретает ощутимые критерии стремления к совершенству. Эта траектория и есть тот самый стимул для корректировки устоявшихся методических подходов к изучению обозначенной темы и ее содержательных аспектов.
Субъективное гражданское право как отраслевой феномен
В гражданском праве есть категории, которые с полным правом могут претендовать на отношение к ним как к центрам учебного познания. Понятие субъективного гражданского права как права лица на вещь, права на действие другого лица, право на участие, права на нематериальное благо и др., из их числа.
В свое время И. А. Покровский отмечал, что «понятие субъекта права и принадлежащих ему субъективных прав составляет необходимое логическое предположение всякого гражданского права, без этих понятий самое гражданское право было бы немыслимо»1. Это понимали как создатели немецкого проекта Германского гражданского уложения 1989 г., начинавшегося с определения понятия гражданских прав, так и составитель российского проекта Гражданского уложения 1809 г. М. М. Сперанский, начавший свои изъяснения в Государственном Совете по поводу него с гражданских прав и впоследствии констатировавший тот факт, что «собственно с гражданских прав все и начиналось»2.
История университетского изучения конструкции субъективного гражданского права во многом поучительна. К тому времени, когда в странах европейского континента уже существовало два таких ведущих подхода к определению субъективного права, как теория воли (субъективное право есть возможность, власть, воля определенного содержания)3 и теория интереса (субъективное право есть юридически защищенный интерес, благо)4, в российском праве оно только начинало изучаться в составе общего раздела цивилистики. Уже к концу ХIХ в. в русской цивилистике появились устойчивые представления об этом правовом феномене. Как отмечал К. Н. Анненков, «несмотря на различие отдельных гражданских прав (вещных, обязательственных, имущественных), можно выделить «общие, основные элементы такого рода, без которых немыслимо ни одно правомочие»5. В основе такого понимания субъективного права лежали достижения европейской науки, передавшей русской цивилистике то понимание субъективного гражданского права, при котором в центре внимания был «сам человек, а не «некая верховная власть»6.
Постановка учения о субъективном праве в число приоритетных тематик общего раздела гражданского права в этот период обеспечила его послереволюционное изучение советской цивилистикой. Многие советские ученые приложили значительные усилия к тому, чтобы дать определение субъективному гражданскому праву (М. М. Агарков, О. С. Иоффе, Н. Г. Александров, М. Д. Шаргородский, Н. Д. Егоров и др.). Немногие из этих имен известны современным студентам, как и тот факт, что одним из первых вопросом о наполнении содержания субъективного гражданского права в национальной юриспруденции задался С. Н. Братусь. На учении этого автора, одним из первых указавшего на то, что содержание субъективного права опосредовано возможностью совершения положительных действий самим управомочен- ным7, основаны все современные учебные методики преподавания темы. Но большинству студентов эти факты мало известны, как и первые достижения представителей немецкой цивилистики, выделивших субъективное право в качестве самостоятельной правовой категории, названной «атомом» всей правовой системы (Ф. К. Савиньи, Г. Ф Пухта, Р. ф. Йеиринг).
Сказывается общая тенденция падения интереса к историческому подходу при изучении специальных дисциплин, пришедшего в юридическую идеологию с принятием Общего устава императорских университетов (1835 г.). Эта потеря для современного гражданского права и его узловой тематики о субъективных правах весьма ощутима. Не без этого процесс учебного познание темы становится все более кратким, без упора на юридические сущности самого субъективного гражданского права с неизменным углублением в заметно устаревшую тематику злоупотребления гражданскими правами. Итоги такого обучения оставляют весьма слабые знаниевые очертания у студентов, «зацикленных» на проблемах злоупотребления гражданским правом и его нарушения.
В то же время актуальные вопросы, связанные с необходимостью понимания того, что обладатель субъективного права способен определять «судьбу» своего субъективного права (обременять его, передавать другим лицам или прекращать), обычно раскрываются лишь при изучении норм отдельных договорных конструкций с презумпцией известности обучающимся этих общих понятий из общей части учебной дисциплины. Но текущая педагогическая практика часто эту презумпцию опровергает, поставляя многочисленные свидетельства того, как трудно понимаются студентами, например, конструкции договора дарения, касающиеся перехода прав в качестве дара, правила об индосаменте в институте ценных бумаг, переход имущественных субъективных прав в порядке наследственного правопреемства. Не менее остро ощущается недостаток вводных учебных знаний о субъективных гражданских правах при изучении тематики интеллектуальных прав, в структуре которых существуют оборотоспособные исключительные права.
Недостаточно внимания в учебном процессе уделяется разнообразию и возможной классификации субъективных прав, образующей, по словам С. А. Синицына, предпосылку любого правопорядка независимо от исторического этапа, социально-политических и экономических особенностей развития государства8. Отсутствие «учебных остановок» в теме о субъективных гражданских правах на вопросах о преимущественных правах, солидарных, совместных, долевых, секундарных с их свойством односторонней реализации, цифровых правах влечет за собой утрату значительного числа образовательных контекстов темы о субъективных гражданских правах, не лучшим образом отражаясь на изучении последующих учебных тематик, в которые впоследствии интегрируются знания о положительном субъективном праве и его разновидностях.
Современный науковедческий уровень проблемы субъективных гражданских прав достаточно высок. В науке гражданского права каждому из этих аспектов традиционно уделяется весьма значительное внимание (С. С. Алексеев, А. В. Белов, Е. В. Вавилин, Т. В. Дерюгина, А. А. Кравченко, С. А. Синицын, Т. С. Максименко и др.). Тем заметнее ущербность методических подходов к этой категории в гражданском праве как учебной дисциплине.
Серьезные упущения в учебном познании темы о субъективных гражданских правах несет её отрыв от конституционных основ. Сотрудничество Российской Федерации с Советом Европы привело к тому, что конституционные нормы стали непосредственным регулятором межличностных отношений и в сфере гражданского права. В национальной доктрине это именуется горизонтальным эффектом9.
Как следствие, современная теория о субъективных гражданских правах оказалась под воздействием новых представлений о правах личности, относящихся не только к индивиду, но и в определенном смысле к юридическому лицу. Конституционные нормы стали исходным ориентиром для изучения вопроса об осуществлении гражданских прав. Однако, как заметил С. С. Алексеев, «кажется, никто не обратил внимания на то, что юридически возвысившиеся права человека оказали наиболее мощное влияние на основной предмет гражданских законов – на человека, его статус и возможности»10.
Пропагандировать их, воспитывать к ним уважение, помогать видеть их в действии – это забота не только дисциплины конституционного права, но и дисциплин частноправового цикла. Не имея продолжения в отраслевом преподавании, это конституционное правило ослабевает в своем значении, обретает признаки декларативности.
В современной научной литературе представлены достаточно убедительные научные взгляды на сущность субъективного гражданского права, даны его развернутые классификации, охватывающие многообразные виды субъективных прав. Но образовательные методики мало учитывают эти достижения, так как ограничивают вопрос о субъективных гражданских правах связью с темой правоотношения. Такой подход утвердился в советском правоведении с его качествами фундаментальности, где вопрос о субъективных правах изучался исключительно как элемент категориального аппарата правоотношения, свойства правоотношения как системы. С возвратом к дихотомии права ситуация изменилась, субъективное право перестало быть только частью общетеоретической конструкции правоотношения. Но методика преподавания не претерпела особых изменений.
Нам представляется, что главные её изменения должны быть ориентированы на внимание к позитивной «цепочке жизни» субъективного права, предначертанной ему правом объективным. Эта цепочка состоит из оснований возникновения субъективного права, его положительных характеристик, вытекающих из неотъемлемых составляющих субъективного права (возможность, правовой интерес, право на свои действия и действия других лиц), изменение и прекращение субъективного права. Речь идет о том, что делает эту категорию узловой для учебного познания гражданско-правовой действительности и закономерностей её развития, обеспечивая должную гармонизацию гражданско-правовых знаний в системной совокупности.
Методические потери университетского изучения темы о субъективных гражданских правах
Лакмусом статичности методики изучения темы является незначительное количество учебного времени (обычно 2 ак. часа.), отведенного для изучения темы «Субъективные гражданские права». Этот объем предопределяет и структуру распределения учебных часов внутри её. Она практически полностью повторяет структуру главы 2 Гражданского кодекса РФ со всей её лаконичностью. А законодательная краткость правила, заключенного в статью 9 Гражданского кодекса РФ по поводу осуществления гражданских прав в их нормальном, ненарушенном состоянии, служит одним из оправданий лапидарности всей образовательной тематики по поводу не только сущности субъективных гражданских прав, но и правил их осуществления.
Между тем, в законодательной действительности правило статьи 9 Гражданского кодекса РФ более емкое. Оно логически вытекает из содержания статей 1, 2, 6 Гражданского кодекса РФ, находя свое продолжение в большинстве институтов корпоративного, вещного, обязательственного, реституционного, наследственного права, а также права интеллектуальной собственности. И где, как не в рамках темы о субъективных гражданских правах это развить и укрепить? Однако в преподавании темы настойчиво и явно «звучат» три привычных «ноты»: виды правомочий (1), пределы реализации гражданских прав (2), защита гражданских прав (3).
Не без этого в образовательном познании сложилось так, что практически всегда при изучении темы о субъективных правах происходит смешение суждений о сущности субъективного гражданского права с его осуществлением.
Вопрос о сущности субъективного гражданского права, как было сказано выше, это вопрос об узловой гражданско-правовой категории. Благодаря которой с необходимостью выделяется то содержательное, что указывает на тесную связь субъективного права с возможностью, дозволенностью, допустимостью, добросовестностью поведения (статика). В то время как осуществление права связано с его реализацией в установленных границах для достижения выгод и интересов управомоченного лица (динамика).
Вопрос о формах реализации субъективного права в гражданско-правовой действительности крайне редко поднимается в предметном обучении, как и тот факт, что использование, исполнение и соблюдение субъективных прав – это одновременно и формы реализации правовых норм. Считается, что он достаточно изучен в теории государства и права, где различают такие ординарные формы, как использование, исполнение, соблюдение, и особую форму – применение права. Должный упор на эти известные общетеоретические постулаты, остановка на них при изучении темы в гражданском праве способны продемонстрировать студентам то положение, что использование, т. е. реализация, управомочивающих норм – это то, что наиболее характерно для гражданско-правового регулирования с его диспозитивным методом.
Неизменная методическая потеря при преподавании темы о субъективных гражданских правах связана с ее постоянным «креном» в сторону пределов и защиты. В соответствии с оказавшейся весьма устойчивой восточноевропейской традицией учебное внимание в большей степени концентрируется не на порядке реализации, а на пределах осуществления этих прав. По этой причине изучение вопроса об осуществлении субъективных гражданских прав нередко начинается с пределов, закрепленных в статье 10 Гражданского кодекса РФ. Тогда как образовательная логика, идущая от юридической сущности субъективного гражданского права, предполагает предпонимание этой темы через обращение к принципам гражданского законодательства, где сконструированы общие правила реализации всех гражданских прав вне зависимости от их подотраслевой принадлежности.
Отступление от этой логики ведет к тому, что обычно без учебного внимания остается законодательный контекст статьи 9 Гражданского кодекса РФ с его позитивными правилами осуществления гражданских прав, обеспечивающими становление значимой учебно-методической «вешки» о том, что широта способов осуществления конкретного субъективного права зависит от его содержания. В одних случаях решающим является поведение самого управомоченного субъекта, в других – действия обязанных лиц. Однако скорый переход к теме злоупотребительного поведения и его форм не оставляет обучающимся возможности узнать об этом. Подобная краткость в тематике осуществления гражданских прав приводит к тому, что конституционное положение о том, что осуществление прав одним лицом не должно нарушать права и интересы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ) обычно исключается из поля учебного зрения.
Сложившийся стереотип – логическое следствие той методики, которая фактически исключает учебное познание всей «полигамии» теорий осуществления субъективных гражданских прав: теории свободы («все лица свободны в осуществлении своих гражданских прав»), теории интереса («лица осуществляют свои гражданские права в своем интересе»), теории воли («лица вольны в осуществлении своих гражданских прав»). Слившись в одну, они в своё время составили контекст пункта 1 статьи 9 Гражданского кодекса РФ, согласно которому граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Это означает, что все вопросы, связанные с использованием субъективных прав, включая объем и способы их реализации, а также с отказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и т. п., решаются управомоченными лицами по их собственному усмотрению. При этом никто не вправе препятствовать субъекту осуществлять принадлежащие ему гражданские права или принуждать его к их реализации.
На сегодняшнем этапе познания гражданского права в целом и его темы о субъективных правах надлежит сделать остановку на принципе добросовестности, имеющем непосредственное отношение к эталонам, стандартам осуществления гражданских прав. Пока они слабо представлены в данной тематике.
Внедрение принципа добросовестности в законодательный текст, вставшего в один нормативный ряд с принципом беспрепятственной реализации гражданских прав, принципом их восстановления и судебной защиты, в гражданско-правовой текст – это новый этап частноправового мышления. И, конечно, его наступление обязывает к корректировке содержания темы о субъективных гражданских правах. Новому поколению преподавателей гражданского права в большей мере, чем прежде, предстоит исходить в своих рассуждениях из интересов других лиц и интересов общего блага.
Как минимум, учет этого аспекта предполагает возврат к тематике принципов гражданско-правового регулирования для того, чтобы учесть контекст принципов в теме осуществления гражданских прав. Именно в этой теме надлежит поднять на поверхность иные предметные значения добросовестности, относящиеся к данной тематике (презумпция добросовестности, заведомо недобросовестное поведение при осуществлении гражданских прав как форма злоупотребительного поведения, позитивная обязанность). Ведь обязанность действовать добросовестно является всеобъемлющей и она не может быть ограничена договором или иным образом исключена из отношений сторон.
Некоторые опоздания российского законодателя в части закрепления подобной презумпции и позитивной обязанности одновременно привели к тому, что российская правовая наука, судебная практика и, как следствие, учебная дисциплина начали экстенсивно интерпретировать запрет на злоупотребление правом. На сегодняшний день такое положение сохраняется. В связи с этим вопросы, относящиеся к стандартам правомерного осуществления гражданских прав еще не вошли в разряд первичных. Судебная практика пока еще только настраивается на универсальность принципа добросовестности в гражданском праве. Сверхактивный интерес к этому феномену проявлен в науке гражданского права, но образовательного пространства эти изменения коснулись очень и очень незначительно: стандарт добросовестности при осуществлении гражданских прав здесь практически не раскрывается.
Как представляется, методическая структура темы (а не просто вопроса) «Осуществление субъективных гражданских прав» нуждается сегодня в изменении. Это предопределено конституционными и международноправовыми ценностями, развитием научной теории об осуществлении гражданских прав, так и произошедшими законодательными изменениями. Отсюда вопреки сложившемуся образовательному подходу к познанию темы о субъективных гражданских правах, при котором превалируют её охранительные оттенки, нам представляется, что методически более оправданно подходить к ней с позиций должного, нормального, ненарушенного субъективного гражданского права, обозначая условия его полноценной реализации как сохранного субъективного права, не пораженного его оспариванием или нарушением. Преобладать в ней должно понимание того, что над субъективным правом превалирует право объективное с его закрепленными возможностями субъективной реализации. Важно указание на то, что реализация субъективного права – это вид социальной активности личности, чьи действия направлены на получение конкретного блага, которое в реальной действительности будет выступать в виде социальной ценности. А порядок осуществления прав основан на структурно организованном единстве субъективного гражданского права и гражданско-правовой обязанности.
Последнее означает, что в тематику осуществления субъективных гражданских прав должен быть включен автономный вопрос о гражданско-правовой обязанности. Как известно, этот вопрос в качестве самостоятельного не ставится в преподавании гражданского права вообще, несмотря на общепризнанность того, что связь субъективного права и юридической обязанности – это неразрывное целое, проявляющееся «в особой юридической среде, именуемой правоотношением» (В. П. Грибанов).
Структуру гражданско-правовой обязанности следует выявлять исходя из структуры субъективного гражданского права, которому противостоит конкретная обязанность в относительном или абсолютном гражданском правоотношении. Вместо этого обращение к юридической обязанности обычно начинается сразу же при изучении конкретных гражданско-правовых обязанностей в рамках соответствующих обязательств, как правило, без понимания обучающимися того, что собой представляет категория долженствования с позиций гражданского права в целом, без деления долженствований на регулятивные и охранительные. И это при том, что такие понятия, как «субъективные права» и «субъективные обязанности», – это понятия сугубо теоретические, призванные облегчить процесс обучения. С точки зрения конечных целей юридического образования они являются ведущими элементами в процессе освоения юриспруденции.
Совсем «непросторным» при изучении отношений по осуществлению права является вопрос об обращении к таким категориям, как «отказ от субъективного права» и «неосуществление права». Не уделяется должного внимания критериям их разграничения. С сожалением можно лишь констатировать, что эти акценты обычно отсутствуют в методике темы, лишая ее содержание важнейших гражданско-правовых постулатов.
Заключение
Последствия методических упущений, изложенных в настоящей статье, далеко не однозначны.
Во-первых, многие конструкции и институты гражданского законодательства, которые «молча» работают на реальность и осуществимость субъективного гражданского права, обучающиеся не усваивают. Ввиду этого позитивный контент, относящийся к вопросу о сущности субъективного гражданского права, его осуществлении, о связи способа осуществления с их назначением, оказывается ущербным.
Во-вторых, самодостаточность знаний о субъективных правах исчерпывается в основном их теоретическим наполнением по содержанию и защите в случае нарушения. Достаточность таких знаний о субъективных правах оказывается сомнительной хотя бы потому, что они не позволяют различать, дифференцировать, разграничивать субъективные гражданские права. А при работе с гражданским законодательством конструировать новые субъективные права.
В-третьих, наиболее слабым местом этой учебной темы продолжает оставаться аспект оборота имущественных прав, так как представления о субъективных правах как об объектах гражданских прав остаются примитивными, а виды субъективных гражданских прав, способных к обороту, многим обучающимся вообще не знакомы.
Именно поэтому можно утверждать, что всестороннее и полное изучение сущности субъективных гражданских прав, их системы, структуры, регулятивного порядка осуществления и его соотношение с защитно-охранными механизмами в их смысловом единстве – необходимые условие и предпосылка полноценных ориентиров во всем гражданском праве и законодательстве.
Список литературы Методические ориентиры в учебном познании гражданско-правовой тематики о субъективных правах
- Алексеев С. С. Гражданское право в современную эпоху. М.: Юрайт, 1999.
- Анненков К. Н. Система русского гражданского права: в 6 т. Т. 1: Введение и общая часть. 2-е изд. СПб., 1899.
- Богданов Е. В., Богданов Д. Е., Богданова Е. Е. Развитие гражданского права России: тенденции, перспективы, проблемы. М.: Юнити-Дана, 2014.
- Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950.
- Виндшайд Б. Учебник пандектного права. Т. I: Общая часть / пер. С.В. Пахмана. СПб., 1874.
- Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М: Статут, 2000.
- Зорькин В.Д. Конституционный суд и развитие гражданского права // Российский судья. 2012. № 3.
- Покровский И. А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании. Киев, 1968 (отд. оттиск из «Университетских известий» за 1986 г.).
- Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002.
- Синицын С. А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение и проблемы теории гражданского права. Сравнительно-правовое исследование. М.: Издательский дом «Юриспруденция», 2015.
- Томсинов В. А. Проект Гражданского уложения Российской империи 1809-1814 годов и его значение в формировании российской науки гражданского права // Законодательство. 2014. № 10.
- Ihering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Leipzig, 1865. Teil 3.