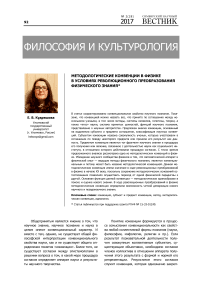Методологические конвенции в физике в условиях революционного преобразования физического знания
Автор: Кудряшова Елена Викторовна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Экономика и менеджмент
Статья в выпуске: 2 (28), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье охарактеризовано конвенциональное свойство научного познания. Показано, что конвенцией можно назвать все, что принято по соглашению между несколькими учеными, в том числе методы, системы символов, гипотезы, теории, а также «этос» науки, система принятых ценностей, функций научного познания, представление о научных авторитетах. Предложен анализ конвенции, основанный на выделении субъекта и предмета соглашения, классификация научных конвенций. Субъектом конвенции названа совокупность ученых, которые участвовали в соглашении по поводу некоторого предмета или приняли его результат как данность. Предметом конвенции является тот фрагмент научного знания и процедуры его получения или явление, связанное с деятельностью науки как социального института, в отношении которого действовала процедура согласия. С точки зрения предложенного анализа рассмотрена одна из методологических конвенций в физике. Убеждение научного сообщества физиков в том, что математический аппарат и физический опыт - ведущие методы физического познания, является конвенциональным и потому может быть названо методологической конвенцией...
Конвенция, субъект и предмет конвенции, метод, методологическая конвенция, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14114258
IDR: 14114258
Текст научной статьи Методологические конвенции в физике в условиях революционного преобразования физического знания
* Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 15-33-01249.
Общепринятым является мнение о том, что научное знание, научное познание и наука в целом имеют конвенциональный характер. И вместе с тем, однако, не существует общей философской интерпретации конвенционального свойства науки, как и не существует общего определения понятия «конвенция». Более того, не существует согласия между эпистемологами в решении вопроса о том, в какой мере процедура согласия определяет аппарат науки и результаты научного творчества.
Понятие конвенции формируется в процессе осмысления конвенциональности как свойства любой коллективной формы познания (науки, философии, мифологии, религии и пр.). Если результат познавательной деятельности получен совокупным коллективным субъектом, существующим объективно, необходимо согласие членов коллектива в отношении аппарата получения этого результата с формой и нормой его репрезентации. Результатом этого согласия служит конвенция, которая однозначно закреп- ляет общее для коллективного субъекта понимание предмета.
Этот максимально общий характер конвенционального свойства всякого коллективного познания создает определенные трудности в понимании того, что такое конвенция. Если рассуждать в пределах логики, конвенцией можно назвать буквально все, что принято по соглашению между несколькими учеными. В отношении науки, в которой всякое знание или отдельный его элемент (вместе с формами и нормами его репрезентации) и научная процедура (метод, подход и пр.) является результатом деятельности многих, конвенция становится буквально категорией понимания науки. Всякая процедура в научном познании, метод, система символов, подход, гипотеза — по сути, любой фрагмент науки — носят конвенциональный характер. Тот же характер носят «этос» науки, система принятых ценностей, функций научного познания, представление о научных авторитетах и пр.
Для того чтобы в анализе понятие конвенции имело ограниченный объем, необходимо определить субъект и предмет конвенции. В данном случае говорить о субъекте необходимо, поскольку всегда существует более или менее определенная локация соглашения. В науке, особенно на ее переднем крае, довольно трудно найти суждение, определение, с которым были бы согласны все члены научного сообщества. Особенно сильно это свойство конвенции проявляется в гуманитарных науках, в которых никогда нет однозначных, навсегда решенных вопросов и определений. Так, до сих пор не существует общего для всех членов сообщества определения философии, нет общего для всех понимания сферы ее деятельности, ее функций и ценности в культуре. Также не существует общего для всего математического сообщества определения математики, ее функций, неоднозначно определено ее соотношение с другими науками.
В отношении конвенции всегда можно указать некоторую совокупность ученых, которые участвовали в соглашении по поводу некоторого предмета или приняли его результат как данность. Именно эту совокупность можно назвать субъектом соглашения . В качестве субъекта соглашения может выступать отдельный коллектив ученых (например, сотрудники лаборатории), научная группа (в том числе в форме «невидимого колледжа»), научная школа, научное общество или научное направление сторонников понимать что-либо в науке единообразно.
Фундаментальным свойством субъекта соглашения является присущая ему тенденция по- стоянного расширения. Сама процедура согласия возможна лишь среди немногих ученых, затем, включаясь в обсуждение некоторой новации, к немногим присоединяются многие — субъект соглашения расширяется. В идеале, видимо, пределом этого расширения является момент, когда субъект соглашения по объему совпадает с научным (или дисциплинарным) сообществом. Условием расширения субъекта соглашения выступает коммуникация: чем более крепкими являются связи между членами сообщества и сообществ друг с другом, тем быстрее распространяются сведения о новации, тем интенсивнее обсуждение ее и принятие конвенции.
Предметом конвенции является тот фрагмент научного знания и процедуры его получения или явление, связанное с деятельностью науки как социального института, в отношении которого действовала процедура согласия. Причем согласие — это не единовременный акт. Как правило, принятие некоторого положения требует четкости в формулировках, достигнуть которой на первом этапе принятия соглашения трудно.
В связи с тем, что предметом соглашения могут выступать различные фрагменты научного знания, процедуры познания и пр., можно говорить о нескольких видах конвенций. Не претендуя на полноту классификации, можно указать символические и языковые конвенции, методологические и интерпретативные конвенции, этические и аксеологические конвенции, онтологические и функциональные конвенции, конвенции относительно образа науки (парадигмы, научно-исследовательской программы), социальной структуры науки, научных авторитетов.
Поскольку рост научного знания непрерывен, соглашения постоянно принимаются и отклоняются. В отношении конкретных дисциплин могут меняться только символические конвенции или только этические, процесс изменения конвенций может быть тотальным. В зависимости от вида конвенций стимулом изменения могут быть новые научные факты, исторические и экономические условия или онтологические предположения.
В данной работе мы обратимся к анализу одной методологической конвенции в физике. Субъектом конвенции выступает научное сообщество физиков, предметом — методы получения физического знания. В данном случае метод понимается наиболее общим образом, как способ получения нового знания. Методологическая конвенция определяет нормы получения физического знания, критерии оценки полученного знания с точки зрения его принятия.
История физики показывает, что представление о методологических нормах складывалось постепенно. В период своего становления «естествознание», или «наука о природе» — к этим понятиям отсылает нас этимология слова «физика» — была связана с наблюдением за природой. Большую роль в физическом познании играла теоретическая и даже умозрительная работа. Лишь немногие выдающиеся ученые древности могли бы претендовать на звание «ученого» в современном смысле слова.
Кардинальные перемены в представлении о естественно-научном познании начались с XVI века, когда плеяда ученых конституировала экспериментальные и математические методы. «Однако только с конца XVIII века и в основном в XIX веке лабораторный эксперимент стал основным орудием развития естествознания, и именно он с математически сформулированной теорией превратил естественные науки, прежде всего физику, в так называемые точные опытные науки и определил бурное развитие их за последние 150 лет» [7, с. 211]. Специализация физических методов позволила отмежеваться естествознанию от других способов познания и совершенствовать методики исследования.
Несмотря на то, что представление о значении математики в физическом исследовании и о том, как понимать физический опыт, значительно изменились, методологическое нормативное требование необходимости этих процедур остается неизменным. Ученые XX века, даже в эпоху кардинальных сдвигов в физической картине мира, по-прежнему связывают методологию физики с математикой и экспериментом.
Эта устойчивость методологии физики становится особенно важной в условиях нечеткого определения объекта физического исследования. С. И. Вавилов, формулируя определение физики как науки, писал: «Многочисленные попытки, начиная с XVII века и до нашего времени, дать вполне конкретное определение физики всегда оказывались в противоречии с ее действительным содержанием или ее явными тенденциями» [1, с. 149]. Дело в том, что локализировать объект и предмет исследования не удается. Физика изучает вещество, пространство, время, отношения, и потому физическое знание универсально по отношению ко всему корпусу естествознания.
Неверным является, согласно С. И. Вавилову, считать объектом физики неорганическую материю, поскольку «физика не исключает из пределов своего ведения живого вещества точно так же, как не отказывается исследовать формы организованной материи различной степени сложности: газы, жидкости, кристаллы, сложные молекулы и т. д.» [1, с. 149]. И посему всякое явление природы может быть исследовано физически.
Таким образом, физика как наука конституируется не объектом и предметом исследования, а методами. В силу именно этой особенности рассуждение о методологии физического исследования — это рассуждение о физике как науке. Конвенциальное единство представления о том, что есть методология физики, — это конвенциальное единство представления о физике в целом.
Убеждение научного сообщества физиков в том, что математический аппарат и физический опыт — ведущие методы физического познания, является конвенциональным, и потому может быть названо методологической конвенцией. Предметом этой конвенции является согласие в том, что любое физическое исследование должно быть математически обосновано, непротиворечиво и подтверждено в опыте вне зависимости от того, какой фрагмент мира исследуется.
Обратим внимание на то, что все иные требования, которые могут быть предъявлены физическому исследованию, имеют второстепенный характер. В этом смысле чрезвычайно показательна следующая история, описанная выдающимся отечественным физиком А. Ф. Иоффе: «Автор электронной теории Лоренц рассказал мне, что, познакомившись впервые с уравнениями Максвелла, он не мог понять их физического смысла и обратился за разъяснениями к переводчику сочинений Максвелла. Но и тот подтвердил, что никакого физического смысла эти уравнения не имеют, понять их нельзя; их следует рассматривать как чисто математическую абстракцию» [3, с. 327]. Лоренц, размышляя в традиционных для своей дисциплины понятиях, задал уместный и разумный вопрос о физическом смысле уравнений. Он не получил ответа и без указания физического смысла уравнений был вынужден принять их как часть научного знания. Этот занятный анекдот показывает: уравнения Максвелла соответствовали основным методологическим требованиям физического познания и потому были приняты в корпус научного знания. Вопрос о физическом смысле уравнений оказался вторичным.
То же мы наблюдаем в связи с историей перехода от «классической» к «новой» физике. Новые научные факты и гипотезы, их объясняющие, первоначально входили в противоречие с уже считавшимися незыблемыми теория- ми. Открывшийся физику микромир оказался лишенным макроскопической определенности, те теории, которые объясняли движение в макромире, оказались недостаточными для объяснения движения в микромире.
Классическая физика была более или менее наглядной, новые физические теории предлагали математический способ объяснения, как правило, лишенный четкого физического смысла. Выдающиеся ученые эпохи революционных преобразований в физике не раз обращались к проблеме потери наглядности современной науки.
Так, А. Ф. Иоффе писал: «Современную физику больше, чем классическую, принято упрекать в потере наглядности, в забвении модельных представлений и в чрезмерном преобладании математики над физикой “здравого смысла”» [3, с. 348]. В книге «Основные представления современной физики» (1949) ученый проанализировал методологию физики и показал, что потеря наглядности является естественным следствием углубления физического познания. Наглядные модели, по мнению ученого, представляют собой упрощенную схематичную картину изучаемого явления, построенную на аналогии. Может существовать несколько моделей, объясняющих явление, каждая может оказаться полезной на некотором этапе исследования, но может быть отброшена позже.
Так, «идея теплорода, электрических жидкостей, гипотеза эфира и многие другие сыграли в свое время положительную роль не потому, что тепловая энергия есть действительно теплород или что электрический заряд — жидкость, а электрическое поле — натяжение эфира. Но в этих сопоставлениях правильно подмечены были черты сходства. Подобранные по этим признакам физические модели позволяют перенести хорошо нам знакомые закономерности процессов внутри модели на новую, еще недостаточно изученную область явлений. В тех пределах, в которых аналогия действительно имеет место, удачная физическая модель позволяет предсказать результаты опытов, искать новые проявления изучаемых процессов и на их основе уточнять модель» [3, с. 349]. Но когда модель становится неспособной предсказывать и объяснять в принципе, научное сообщество постепенно отказывается от нее. А. Ф. Иоффе подчеркивает: «Модель только попутчик до одного из поворотов, где пути изучаемого явления и его модели расходятся» [3, с. 349].
По словам ученого, на современном этапе развития физики наглядную модель вытесняет математическая теория. «Ее значение опреде- ляется охватываемой ею областью опытных фактов. Если их математическая формулировка правильна, то все, что находится внутри данного опыта, может быть предсказано с гораздо большей уверенностью и строгостью, чем могли бы дать рассуждения на моделях и наглядных образах» [3, с. 350]. Эффективность математической теории определяется тем же, чем и эффективность физической модели, — успешностью и предсказательной силой. Для «новой» физики математика выступает средством поиска нового знания.
Таким образом, А. Ф. Иоффе показал, что требование наглядности, которое классическая физика считала одним из основных, становится лишним в условиях «новой» физики. От требования наглядности физика была вынуждена отказаться в силу новых опытных данных: новые эксперименты явили природу такой, какой ее нельзя представить в наглядных моделях.
Показательно, что для ученого принять парадоксальность выводов из экспериментов легче, чем отказаться от них. Известный физик В. Гейзенберг писал: «Я вспоминаю многие дискуссии с Бором, длившиеся до ночи и приводившие нас почти в отчаяние. И когда я после таких обсуждений предпринимал прогулку в соседний парк, передо мною снова и снова возникал вопрос, действительно ли природа может быть такой абсурдной, какой она предстает перед нами в этих атомных экспериментах» [2, с. 17]. Обратим внимание на то, что в мировоззрении ученого отказ от «здравого смысла» в понимании природы труден, но и необходим. Удивление, которое двигает его к переосмыслению «природы», не дает оснований сомнений в экспериментах.
Много позднее выдающийся отечественный физик-химик Н. Н. Семенов писал: «Движения в микромире вообще противоречат тому, что мы называем (кстати, совершенно условно) здравым смыслом, который ведь есть не что иное, как привычка к тому, как двигаются обычные тела, с которыми мы повседневно имеем дело. Самое опасное при изучении действительно нового — это пользоваться только так называемым здравым смыслом, когда мы выходим за пределы привычного» [7, с. 216]. Ученый был уверен, что рассуждения в русле «здравого смысла» неуместны в отношении объяснений явлений микромира.
Таким образом, «новая» физика показала, что принцип наглядности и требование соответствия «здравому смыслу» являются вторичными по отношению к эксперименту и требованию математической строгости. Осмыслив выводы, полученные из новых экспериментов в области изучения микромира, движимые эффективностью применения математических теорий, ученые-физики поспешили обосновать потерю наглядности.
Несомненно, третьестепенными по отношению к основной методологической конвенции являются требования идеологического и философского значения. История науки в СССР показала, что в особых политических условиях, в которых идеология предъявляет требования к научному познанию, физическую теорию можно оценивать (в том числе) с точки зрения основного вопроса философии. Официальная власть СССР требовала от ученых признания и научной демонстрации диалектико-материалистического подхода.
В 1930—40-х годах новые физические теории — теория относительности и квантовая теория поля — подвергались критике за несоответствие требованиям диалектико-материалистического подхода. Идеологи, философы и даже некоторые ученые-физики старшего поколения критиковали «новую» физику как демонстрацию идеализма.
Многие ученые-физики, сторонники новых физических теорий, были вынуждены обосновывать их с точки зрения диалектико-материалистического подхода. Именно в силу постоянных идеологических баталий всякая физическая работа сопровождалась указанием на то, что новые теории не только не опровергают, но и демонстрируют диалектико-материалистическое учение.
И вместе с тем внимательный анализ работ, написанных с данной целью, показывает, что обоснование диалектико-материалистического подхода было вторичной процедурой по отношению к собственно исследовательской деятельности. Сначала были получены новые факты, а затем они осмысливались с точки зрения диалектико-материалистического подхода.
Так, в нескольких работах С. И. Вавилов проанализировал эффективность ленинской работы «Материализм и эмпириокритицизм» в отношении оценки философского мировоззрения современного физика. Структура этих работ единообразна. В частности, статья «В. И. Ленин и физика» (1934) начинается с утверждения о том, что В. И. Ленин — величайшая историческая фигура. Автор как бы обосновал, что убеждения В. И. Ленина в области физики имели принципиальное значение, но не для науки, а для философии. Обратим внимание на следую- щее суждение автора: «Борьба за философию диалектического материализма… с неизбежностью должна была развертываться на материале этапов новой физики» [1, с. 23]. Иными словами, «борьба за философию» стала причиной обращения к проблемам физики. Кроме того, по ходу текста ученый не раз замечал, что главные задачи публикации «Материализма и эмпириокритицизма» — политические.
Затем С. И. Вавилов охарактеризовал состояние науки в начале XX века, сообщил о наиболее значительных открытиях в области физики. Ученый показал, что существовали объективные причины отказа от наглядных моделей в изучении микромира, в переосмыслении физической картины мира в целом.
В ходе рассуждений С. И. Вавилов допустил занятный смысловой переход. А именно в один ряд ошибочных представлений о микромире он поставил «безнадежные попытки механического объяснения немеханических явлений» и идеалистические выводы из фактов «новой» физики. Автор как бы уравнял по критерию ошибочности пусть ложные, но научные гипотезы и философские суждения, которые вряд ли могут быть охарактеризованы с точки зрения истинности. Этот смысловой переход позволил ученому ввести в рассуждение о проблемах современной науки идеологическое обоснование необходимости диалектического подхода и идей В. И. Ленина.
Следующая часть статьи посвящена анализу содержания книги «Материализм и эмпириокритицизм». С. И. Вавилов объемно цитировал В. И. Ленина и старался доказать, что он решил «методологические затруднения новой физики», а именно что он сформулировал философски корректное определение материи. И здесь автор допустил еще один любопытный смысловой ход. Традиционно «методология» связана с учением о способах научного познания, а не со способом философского осмысления его результатов. В этой перспективе не вполне ясно, является ли философское определение материи главной методологической проблемой физики. Вероятно, это возможно только с учетом заметного расширения объема понятия методологии. Однако этот смысловой ход позволил автору завершить анализ «Материализма и эмпириокритицизма» тезисом о том, что книга может быть полезной для многих поколений физиков.
Внимательное прочтение явно идеологически нагруженной статьи, имеющей скорее ритуальное значение, показывает, что философские вопросы не имели для научного сообщества принципиального значения, хотя вопросы фило- софского мировоззрения волновали многих выдающихся физиков, особенно в эпоху кардинальных изменений в физической картине мира.
Научное сообщество физиков, которое выступает субъектом охарактеризованной методологической конвенции, ретранслирует нормативные требования к физическому познанию. От поколения к поколению ученых переходит знание методологической конвенции, что обеспечивает преемственность научной традиции и цельность физики как науки. Используя эпистемологические понятия А. П. Огурцова, можно сказать, что данная методологическая конвенция есть содержательная часть «методологического сознания ученых».
Так, в отечественной школе физики ученые, занимавшиеся проблемами эпистемологии, не раз обращали внимание на незыблемость методологических норм научного познания. А. Ф. Иоффе исследовал методологию физики в условиях появления новых физических теорий — квантовой теории и теории относительности (см.: [4]). С. И. Вавилов проанализировал понятие физического опыта и функций математического аппарата в физике (см.: [1, с. 151—152, 154— 157]). Еще ряд выдающихся отечественных ученых первой половины XX века — Я. И. Френкель, В. А. Фок и др. — писали об особенностях методологии физики (см.: [5; 6, c. 354—365; 8, с. 464—474; 9, с. 1070—1083; 10, с. 259—274]).
Ученые были солидарны в мнении о том, что «математический метод в сочетании с опытом — испытанное орудие физического исследования» [3, с. 353]. Так, выдающийся ученый А. И. Иоффе выразил устоявшееся в научном сообществе физиков конвенциональное представление о методах.
С функциональной точки зрения методологическая конвенция обеспечивает рост научного знания, определяет способ поиска новых научных фактов. В эпоху революционных изменений в физическом знании и научной картине мира она обеспечила незыблемость норм познания. Иными словами, основная функция методологической конвенции в физике — методологическое единообразие в поиске и оценке нового знания. В ходе революционных преобразований в физике методологическая конвенция обусловила возможность четкой демаркации нового научного и псевдонаучного знания.
Устойчивая методологическая конвенция, определяющая общее представление о способах физического познания и обоснования физического знания, обеспечивает единство физики как науки. Помимо этой основной методологической конвенции существуют и другие методологические конвенции, которые касаются частных методов или порядка их применения. Их устойчивость определяется эффективностью в получении научного результата.
Список литературы Методологические конвенции в физике в условиях революционного преобразования физического знания
- Вавилов С. И. Собр. соч. Т. 3. Работы по философии и истории естествознания/С. И. Вавилов. -М.: Изд-во АН СССР, 1956. -881 с.
- Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое/В. Гейзенберг. -М.: Наука, 1989. -400 с.
- Иоффе А. Ф. О физике и физиках. Статьи, выступления, письма/А. Ф. Иоффе. -Л.: Наука, 1985. -544 с.
- Иоффе А. Ф. Основные представления современной физики/А. Ф. Иоффе. -Л.: ГИТТЛ, 1949. -368 с.
- Макаров М. А. О природе физического знания/М. А. Макаров//Вопр. философии. -1947. -№ 1. -URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28 (дата обращения: 28.02.2017).
- Мандельштам Л. И. Полн. собр. тр. Т. 3/Л. И. Мандельштам. -М.: Изд-во АН СССР, 1950. -428 с.
- Семенов Н. Н. Наука и общество. Статьи и речи/Н. Н. Семенов. -М.: Наука, 1973. -482 с.
- Фок В. А. Об интерпретации квантовой механики/В. А. Фок//Успехи физических наук. -1957. -№ 4. -С. 461-474.
- Фок В. А. Принципиальное значение приближенных методов в теоретической физике/В. А. Фок//Успехи физических наук. -1936. -№ 5. -С. 1017-1083.
- Френкель Я. И. На заре новой физики/Я. И. Френкель. -Л.: Наука, 1970. -384 с.