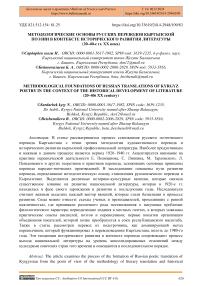Методологические основы русских переводов кыргызской поэзии в контексте исторического развития литературы (20-40-е гг. ХХ века)
Автор: Сардарбек Кызы Н., Бейшеналиева Б.А.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 12 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс становления русского поэтического перевода Кыргызстана с точки зрения методологии художественного перевода и исторического развития кыргызской профессиональной литературы. Наиболее продуктивным и важным в данном процессе является период 1920-1940 гг. Акцентируется внимание на практике переводческой деятельности Е. Поливанова, С. Липкина, М. Тарловского, Л. Пеньковского и других теоретиков и практиков перевода, заложивших основные принципы перевода народно-эпических произведений. В исследовании освещены пути развития перевода, определившие методологическую основу становления русскоязычного перевода в Кыргызстане. Выделяются различные историко-культурные явления, которые оказали существенное влияние на развитие национальной литературы, которая в 1920-е гг. находилась в фазе своего зарождения и развития в последующие годы. Исследователи считают важным выделять каждый вектор явлений, которые стали базисными в процессе развития. Сюда можно отнести: съезды ученых и преподавателей, проходивших с разной цикличностью, где принимали различного рода постановления о насущных проблемах филологического характера; периодические издания в местных газетах, в которых показаны практические опыты писателей, поэтов и переводчиков; первые попытки организации объединения писателей, который позже преобразуется в союз республиканского масштаба. Также в статье рассмотрен перевод из подстрочника, как доминирующий метод переводчиков, который функционировал в переводоведении Кыргызстана, вплоть до 1980-го года. Эти тенденции исторического развития в контексте перевода сопровождают процесс выхода национальной литературы на уровень консолидированных отношений между культурами советских стран того времени и освещаются в последовательном порядке.
Перевод, переводоведение, теория перевода, национальная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14132034
IDR: 14132034 | УДК: 821.512.154: | DOI: 10.33619/2414-2948/109/83
Текст научной статьи Методологические основы русских переводов кыргызской поэзии в контексте исторического развития литературы (20-40-е гг. ХХ века)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 821.512.154: 81.25
1920-е гг. в переводной истории кыргызской поэзии не выделяются ярким и богатым содержанием переводческих процессов, как это можно наблюдать в 1940–60-е гг., где часто прослеживается переводная множественность (сменяющих друг друга или одновременных версий перевода одного и того же произведения). При этом 1920-е гг. включаются в литературную эпоху как период подготовки почвы для перевода. Условно это 1922 г., когда была произведена запись К. Мифтаховым текста эпоса «Манас».
Так, одним из важнейших периодов в периодизации перевода в качестве «старта» являются 1920-е гг. Если рассмотреть его с общественно-культурного аспекта страны — это был большой плодотворный период борьбы с неграмотностью, положивший начало экспедициям этнокультурологического характера, в которых активное участие принимал Е. Д. Поливанов (один из основателей филологической культуры перевода в Кыргызстане); это и исторически важный процесс по установлению кыргызского алфавита: первый съезд казахских и кыргызских ученых в 1924 г., затем в 1925 г. первый съезд учителей Киргизской Автономной Области, принявший различные постановления о буквах и знаках. Сама специфика данных мероприятий сравнима в первую очередь с «заложением капсулы» в фундамент дальнейшего развития интеллектуальной и духовной среды молодой литературы. Именно в этот период начинается большая работа по записи эпоса «Манас» от величайших сказителей Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбак улуу. Также в этот период (1924 г.) в Москве при Центральном издательстве народов СССР была образована своя, кыргызская, секция переводчиков, куда входили кыргызские студенты. В 1926 г. было создано и приступило к выпуску своих первых книг Кыргызское государственное издательство. В 1927 г. осуществлена первая попытка организации объединения писателей страны – создан кружок "Красная искра", который позже, в 1928 г., становится "Киргизской ассоциацией пролетарских писателей" [1].
Разумеется, перечисленное выше не отражает всей многоаспектности формирования национальной литературы, но к 1932 г. завершается оформление организационных процессов литературы и появляется почва для перевода, что, собственно, и приводит к тому, что появляются первые переводы в этом же году. Далее возникает новая историколитературная ситуация. В начале 1930-х гг. появляются указания по переводу учебников, подходящих по идеологической парадигме, на родной язык. С 1933 г. по инициативе Союза писателей республики по словам С. С. Даниярова происходит «интенсивный перевод лучших произведений русских и советских писателей», в процессе которого, по мнению исследователя, «киргизские писатели проходили хорошую школу идейного воспитания и художественного мастерства» [2].
В 1930-е гг. стремительно начинает прогрессировать литературная микрообщность переводчиков кыргызской поэзии, прежде всего устной поэзии, которую они переводят наряду с выдающимися памятниками, когда в вектор рассмотрения попадает эпос «Манас». К концу данного десятилетия обозначаются основные аспекты выбора транслирующей литературы, отбираются произведения, значимые для ознакомления читательской аудитории на советском межнациональном уровне.
Переводческая практика Кыргызстана, начиная с 1930-х гг., активно придерживалась в функциональном отношении конвенциального типа перевода, другими словами, его называли художественный перевод с подстрочника (т.е. литературная обработка подстрочника), который стал доминирующим методом при переводе кыргызской поэзии вплоть до 1980-х гг. Появление и популяризация данного метода прежде всего связаны с большим объемом «госзаказа», обусловленного ростом национальных литератур и невозможностью обеспечения всех заказов переводчиками, владеющих языком подлинника. Перевод с подстрочника, главной особенностью которого является посредничество, противопоставлен всем другим научным видам художественного перевода. Он обладает существенными чертами – точностью, экспрессивностью и вольностью, но за этими чертами следуют определённые недостатки, что позже неоднократно было подмечены критикой. Однако как явление, важное и неотделимое от самой истории кыргызской поэзии, данный тип перевода принёс свои плоды. Нет точных сведений о том, как перевод с подстрочника внедрился в переводоведение Кыргызстана, но представляется вероятным, что этот перевод практиковался ранее 1930-х гг. и развивался в процессе смены переводческих принципов и типов в культурологическом аспекте страны.
Далеко не всегда незнание языка являлось критерием качества перевода. Так, в 20-е гг. ХХ в. В. Брюсов и А. Блок переводили армянскую поэзию, не зная языка, но переводы были адекватны и бытовали как образцы переводной поэзии. Например, Л. М. Мкртчян пишет об А. Блоке: «Он не владел армянским языком, но делал все, чтобы восполнить этот пробел и переводить стихи так, как если бы они ему были доступны в подлиннике» [3].
В переводной истории кыргызской поэзии известны имена поэтов-переводчиков, которые не владели национальным языком, но их переводы заложили главные принципы, ставшие основой для всей переводческой школы Кыргызстана в последующие годы. Масштабные переводы С. Липкиным, М. Тарловским и Л. Пеньковского кыргызского поэтического эпоса послужили важным шагом в эволюции принципов художественного перевода, определивших во многом весь последующий путь его становления и развития.
После 1 съезда писателей Кыргызстана, прошедшего под руководством А. Токомбаева, Гослитиздат организует закрытый конкурс, который приносит свои плоды в 1936 году: в конкурсе побеждают молодые переводчики — поэты Л. Пеньковкий, М. Тарловский и С. Липкин.
В указанный период времени имеют место первые практические опыты переводчиков. Это публикация в 1935 г. переводов Ф. Ощакевича и Э. Беккера фрагментов эпоса «Манас». Через несколько месяцев Е. Поливанов публикует уже во внушительных объемах кыргызский эпос в журнале «Литература и искусство Узбекистана». В этом же журнале публикует свои переводы Л. Пеньковский.
В целом перевод эпоса «Манас» проходит сложно и кропотливо. Большую инициативу в процессе перевода эпоса проявил К. Тыныстанов, которому периодически приходилось ездить в Москву к переводчикам М. Тарловскому, С. Липкину, Л. Пеньковскому для консультаций по переводам этнокультурологического характера, чтобы перевод сохранил свою самобытность в русской трансляции. Сложность задачи перевода заключалась прежде всего в большом различии между поэтической техникой кыргызского стиха – силлабического и русского стиха — силлабо-тонического.
Перспективы перевода кыргызского эпоса уже предусмотрел Е. Д. Поливанов в своих филологических исканиях, которые долгое время не были опубликованы и впоследствии дошли до читателя на основании докладов исследователя. Также сопроводительные заметки Ф. Ощакевича к публикациям первых переводов эпоса «Манас» сыграли важную роль в бытовании кыргызского эпоса в русскоязычном векторе культуры.
Известно, что Е. Д. Поливанов с 1934 г. начинает свою научную деятельность на территории Кыргызстана по приглашению К. Тыныстанова в институте культурного строительства – КирНИИКС (Кыргызский научно-исследовательский институт культурного строительства). Здесь учёным аккумулируются принципы перевода на русский язык эпоса «Манас».
Переводы Е. Д. Поливанова датируются 1934–1936 гг. [4]. Предположительно первая публикация отрывка из эпизода «Наказ Алманбета Манасу» состоялась в газете «Советская Киргизия» в 1935 г.. Примечательно то, что за короткий временной отрезок переводы эпоса, выполненные Е. Поливановым, впечатляют внушительными объемами. Отрывок «Великий поход. Богатырь Манас едет на Пекин Великий» насчитывает 430 строк; «Великий поход» (по варианту Сагымбая Орозбакова) насчитывает 3105 строк; фрагмент «Проезд послов от шести ханов к Манасу» включает 60 страниц [5-7].
В основе перевода Е. Д. Поливанова лежит формально-функциональный подход: «Переводовед и переводчик, теоретик и практик в Поливанове не обнаруживают единства соразмерности исследовательского и творческого начала. Отчетливо представляя амбивалентность природы перевода, Поливанов резко разделяет задачи "подстрочного переводчика" и "поэтического обработчика", придавая работе первого особое значение. Императивность, скрупулезность, требовательность в рекомендациях к подстрочному переводу контрастируют со сдержанностью, известной деликатностью по отношению к "литобработке"» [8].
В процессе перевода эпоса в Е. Поливанове борются две его ипостаси: первая – переводчик, вторая – теоретик переводоведения. Подобная своего рода полемика наблюдается в тех ситуациях, когда у переводчика есть свои научные постулаты, но в процессе перевода, включается «практик», который то и дело мечется в разные стороны. Поливановские переводы показывают данную ретроспективу, но в итоге теоретик побеждает, как в случае с «брюсовским буквализмом [9].
Работа Е. Поливанова имеет четкое разграничение задач «подстрочного переводчика» и «поэтического обработчика» [10]. Случаи, когда обе ипостаси сливаются воедино, есть, но «подстрочный перевод» имеет домирующую функцию, и позже сам Е. Поливанов причислит себя к переводчикам-подстрочникистам. В связи с этим можно предположить, что, обосновывая специфику и подстрочника и поэтического перевода, Поливанов демонстрирует симбиоз эквивалентности и адекватности. В этой связи А. Д. Швейцер отмечает: «Если эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие создаваемого в итоге межъязыкового коммуникативного акта, с его детерминантами и фильтрами, с выбором стратегии перевода, отвечающей коммуникативной ситуации ( ) Адекватность же представляет собой категорию с иным онтологическим статусом. Она опирается на реальную практику перевода, которая часто не допускает исчерпывающей передачи всего коммуникативно-функционального содержания оригинала» [11]. Данная теория кажется вполне уместной, когда перед переводчиком встает задача «дать адекватное оригиналу эстетическое воздействие на читателя», но она «оказывается необычайно трудной» [10]. «Необычайная трудность» задачи русскоязычного воплощения эпоса кроется в «весьма крупных различиях между поэтической техникой киргизского текста и привычными для русского читателя формально-поэтическими приемами» [10].
Специфика поливановского перевода заключается в дифференциации систем стихотворной поэтики: компоненты, которые возможно сохранить в русском переводе, и компоненты, которые невозможно оставить, в силу различных факторов «внешней аллитерации». В этом контексе прозвучали справедливые высказывания В. И. Шаповалова: «Как лингвист Поливанов в данном случае безусловно прав, если считать "внешней аллитерацией" распространенное применение одного и того же звука в началах стихов эпоса и не обращать внимания на весь комплекс повторов; как переводчик же он мог бы поставить задачу проявить аллитерацию как факультативный повтор, связанный с синтаксической анафорой – это не составляет непреодолимой задачи, о чем свидетельствуют многочисленные примеры» [9].
Расмотрим один из примеров перевода С. Липкина, в которых удалась подобная аллитерация:
На равнины её посмотри!
На стремнины её посмотри!
На деревья её посмотри!
На кочевья её посмотри!
На зимовья её посмотри!
На становья её посмотри!
Посмотри на её луга!
Посмотри на её снега!
На её цветники посмотри!
На её родники посмотри!
На её лебедей посмотри!
На её лошадей посмотри! [12, с. 49].
Тафтоморфемная рифма, которая так свойственна кыргызскому эпосу, здесь получает многозадачную функцию, передающую многомерность всего спектра эмоций Семетея. «Внешняя аллитерация», которая являлась непреодолимым барьером в переводе эпоса, в переводах абстрагируется с помощью синтаксического параллелизма оригинала. Эту аллитерацию Е. Поливанову, первооткрывателю, по вполне понятным причинам трудно было предугадать. И все же Е. Д. Поливанов как первопроходец и теоретик заложил основу для переводческого творчества молодой, только образовывающейся национальной литературы и оказал влияние на целую эпоху переводчиков. В эти же годы отечественное переводоведение движется в быстром темпе. В 1936 году публикуется в переводе Н. Чекменова поэма Дж. Боконбаева «Золотая девушка». В 1937 году на свет выходит перевод «Алманбет и Алтынай»
— вольная обработка С. Клычковым эпического эпизода из «Манаса». В том же году выходит большой спектр переводов народной лирики в переводах В. Винникова. В 1938 году осуществляется попытка дать ретроспекцию акынского творчества посредством осуществленной переводчиком В. Винниковым публикации книги «Сказание о счастье».
Первая декада кыргызского искусства и литературы 1939 г. явилась знаменательным событием и важнейшим катализатором в развитии поэтического искусства, также и в переводческом контексте. По этой причине первое десятилетие русскоязычного перевода в Кыргызстане своевременно обозначило традиции выбора объектов перевода. В первую очередь уделялось внимание фольклору и акынскому творчеству, но также не обделялась вниманием и молодая профессинальная литература.
Завершающим этапом в развитии художественного перевода является издание книг «Избранные произведения» Т. Сатылганова в 1940 году и «Манас» в 1941 году в Москве.
Весьма интенсивно переводы появляются в периодике этих лет: к примеру, газета «Советская Киргизия» оперативно публикует каждый перевод, словно задавшись целью отразить каждый элемент развития литературного процесса.
Все рассматриваемые вопросы свидетельствуют о том, что «с 1932 по 1941 гг. вместе со всей литературой страны перевод киргизской поэзии на русский язык прошел этап консолидации творческих сил, выбора концепции переводческого строительства, первых переводческих опытов, первых филологических и этнокультуроведческих их обоснований, в русле которых делается прагматический "маркированный" выбор форм и средств воссоздания инонациональной поэтики и формируется в своих основных устремлениях творческий метод» [9, с. 43].
В 1940-е гг. работа по русскому поэтическому переводу активизировалась с приездом писателей, эвакуированных из центральных районов СССР, увеличилось также и число переводов в газетах и журналах Кыргызстана. Корпус переводчиков, приехавших из центра, выглядит следующим образом: В. В. Винников, А. Е. Адалис, Г. А. Шенгели, Н. А. Шенгели, Л. П. Пасынков, А И. Пасынков, Я. В. Апушкин, М. Н. Муромцев, Н. А. Мучник, А. Ф. Кравцов, Е. П. Зоря, Е. Г. Босняцкий, В. Ф. Авдеев и другие. Данные писатели, имея большой творческий опыт, быстро влились в союз писателей, где также проделали плодотворную работу по переводам. В первые месяцы войны в отечественных газетах и журналах резко возросло количество переводных произведений, а также «более двадцати сборников стихов и прозаических произведений признанных киргизских писателей» [13, с. 27]. Новыми силами публикуются сборники «Присяга» Т. Уметалиева, «Земля Манаса» А. Токомбаева, «Кровь за кровь» К. Маликова, коллективные сборники «Москва».
В целом 1940-е гг. можно рассматривать как период закрепления сложившейся литературной традиции перевода, который силами возвратившихся с войны русских писателей и эвакуированных литераторов подготовил переводческие силы на качественно новый уровень: «С появлением в столице Киргизстана писателей из центральных районов, видимо, стимулировавшим рост литературного мастерства, начали образовываться своего рода союзы, длительные творческие контакты: В. Винников – К. Маликов и А. Усенбаев; А. Адалис – К. Баялинов и Дж. Боконбаев; Я. Апушкин – Т. Уметалиев и Т. Шамшиев» [9, с. 47].
Таким образом, довольно большой временной отрезок (20-30-40-е гг.) интегрирует в себе самые разные стороны литературно-культурного плана, происходит своего рода отбор «близких» или «удобных» методов для основ переводческих процессов. Данная тенденция сопровождает процесс выхода национальной литературы на уровень консолидированных отношений между культурами советских стран.
Список литературы Методологические основы русских переводов кыргызской поэзии в контексте исторического развития литературы (20-40-е гг. ХХ века)
- Баялиев Т. Под руководством Коммунистической партии - к расцвету киргизской советской литературы. Фрунзе, 1978. С. 16-27.
- Данияров С. С. Осуществление ленинской национальной программы культурной революции в Киргизии. Фрунзе, 1972.
- Мкртчян Л. Этот прекрасный поэт невероятно труден для передачи... // Вершины. Ереван, 1980. С. 110-148.
- Ларцев В. Г. Евгений Дмитриевич Поливанов: Страницы жизни и деятельности. М., 1988. 328 с.
- Манас: Великий поход (Чон газат) // Литературный Узбекистан. 1936. №4. С. 48-53.
- Манас: Из рассказа Алманбета о своем происхождении. Наказ Алманбета Манасу. Самое начало «Великого похода» // Литературный Узбекистан. 1936. №2. С. 411-424.
- Манас: Наказ Алманбета Манасу (из эпизода «Великий поход») // Советская Киргизия. 1937. 12 мая.
- Шаповалов В. И. Эпос «Манас» и русский филолог Е. Поливанов. Становление творческой методологии русского перевода кыргызской эпической поэзии // Эпос «Манас» как историко-этнографический источник: Тезисы международного научного симпозиума. Бишкек, 1995. С. 101-103.
- Шаповалов В. И. Соло на два голоса. Киргизская поэзия в русских переводах. 193050-е года: Методология. История. Стихотворная поэтика. Бишкек: Vesta, 1998. 410 с.
- Поливанов Е. Д. О принципах русского перевода эпоса «Манас» // «Манас» -героический эпос народа. Фрунзе, 1968. С. 56-74.
- Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 215 с.
- Антология кыргызской поэзии. М., 1957. 443 с.
- Деев В. История в образах: Отражение в киргизской художественной литературе истории Киргизии периода Великой Отечественной войны. Фрунзе, 1981. 176 с.