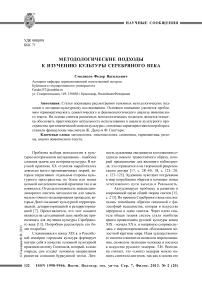Методологические подходы к изучению культуры Серебряного века
Автор: Смоляков Федор Васильевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (20), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению основных методологических подходов к историко-культурному исследованию. Основное внимание уделяется проблемам герменевтического, семиотического и феноменологического анализа живописного текста. На основе синтеза различных методологических подходов делается попытка обосновать практическую актуальность использования в анализе культурного пространства «ризоматической модели культуры», основные характеристики которой представили французские мыслители Ж. Делез и Ф. Гваттари.
Методология, эпистемология, семиотика, герменевтика, ризома, анализ живописного текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14974593
IDR: 14974593 | УДК: 008(09)
Текст научной статьи Методологические подходы к изучению культуры Серебряного века
Проблема выбора методологии в культурно-историческом исследовании – наиболее сложная задача для историка культуры. В научной практике ХХ столетия выработалось довольно много противоречивых теорий, которые затрагивают отдельные стороны культурного пространства, но более или менее цельной исследовательской практики так и не появилось. Отсюда возможность междисциплинарного синтеза методологии для максимально точного моделирования процессов, которые Делез называет культурной территори-зацией, детерриторизацией и ретерриториза-цией [7]. Представляется, что этот концепт является на сегодняшний день наиболее приемлемым для изучения культуры Серебряного века [13]. Попробуем рассмотреть его более подробно.
Сложившаяся к концу XIX в. в Российской империи городская культура формирует внутри себя в качестве основной культурной практики систему Спектакля, который, в свою очередь, сам создает основные направления развития сознания буржуазной эпохи. Лич- ность художника оказывается в положении создателя некоего травестийного образа, который предназначен для внешнего наблюдателя, что отражается и на творческой репрезентации автора [17, с. 28–40; 18, c. 123; 20, с. 123–125]. Художник чувствует погружение в мир потребления образов и начинает поиск эстетического пути выхода в Реальность.
Актуализирует проблему и развитие в современной науке общей теории систем [15, c. 213]. Во времена Серебряного века она оказалась теснейшим образом связанной с философией всеединства, которая в искусстве переросла в идею синтеза. Через идею синтеза общая теория систем стала наиболее ярким проявлением русской культуры конца XIX – начала XX в. и напрямую соприкоснулась с мировоззренческим обоснованием целостной картины мира. Идея художественного синтеза становится символом миропонимания, символом эволюции человека и космоса в искусстве русского модерна. Т.И. Володина считает, что «синтез модерна можно назвать синтезом синтезов, так как в основе его лежит идея соучастия, содействия высшему Синтезу» [4, c. 267].
В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением трех, на наш взгляд, основных дискурсивных полей, в пространстве которых возможно понимание художественных произведений.
Классическое понимание художественного произведения как единства места, времени и действия, безусловно, имеет право на существование. Но именно в нем, как представляется современной исследовательской мысли, кроется сама проблема понимания искусства в целом и живописного произведения эпохи Серебряного века в частности. Рационалистическое понимание искусства как буквальной репрезентации реальности в пространстве живописного полотна, сложившееся в отечественной науке, привело к крайне схематизированному, описательному изучению изобразительного искусства [9, с. 71; 11, с. 135; 12, с. 143; 14, с. 112; 19, с. 64]. Сложилась ситуация, когда исследователь брал живописное произведение как некую данность, оторванную от контекста, и анализировал с точки зрения своего исторического времени формальную наполненность конкретного полотна. Исследователь оперировал преимущественно формальными категориями и диалектическими моделями Г. Гегеля и К. Маркса, или, наоборот, метафоричными высказываниями, вырывая само произведение из своего времени и опуская роль зрителя, на внимание которого направлена картина. Роль «наблюдателя» в анализе картины либо совсем отсутствует, либо оказывается на периферии 1. Таким образом, живописное полотно превращалось в мертвый, раз и навсегда конституированный, не терпящий иных, кроме официального, взглядов на смысловую наполненность, дискурс. Данный подход характерен как для многих советских, так и для ряда западных исследователей. Определенный формализм свойствен и структурализму. В основании этого течения лежит аналитическая философия Л. Витгенштейна. «О чем невозможно сказать, о том следует молчать» [3, c. 87] – принцип, который стал системообразующим для всего исследовательского поля сторонников структурализма.
В то же время именно структурализм дал основание для формирования другого дискурсивного поля, обладающего большей логической емкостью. Одним из основных положений структурализма является утверждение о том, что социальные и культурные явления не обладают самостоятельной субстанциальной природой, а определяются своей внутренней структурой (то есть системой отношений между внутренними структурными элементами) и системой отношений с другими явлениями в соответствующих социальных и культурных системах.
«Лингвистический поворот» в истории культуры, наметившийся еще в начале ХХ в. Фердинандом де Соссюром, определил лицо практически всех культурологических исследований новейшего времени. Семиотика как методологическое направление стала логичным развитием позитивистских атомарных теорий середины ХIX в., а семиотический анализ – стержнем структурализма в культурноисторическом исследовании.
Наиболее общим кратким определением семиотики является наука о знаках. Она включает изучение любого посредника между реальностью и текстом как некоторой знаковой системы. Семиотика выступает как способ рассмотрения любого предмета так, будто бы он построен и функционирует подобно языку. Это подобие и есть суть метода. Все может быть описано как язык: система родства, карточные игры, жесты, выражение лица, кулинарное искусство, религиозные обряды и ритуалы, поведение насекомых. Рождение семиотики в России связано с деятельностью Московско-тартусской школы семиотических исследований под руководством Ю.М. Лотмана. Здесь можно вспомнить принадлежащее Б.А. Успенскому указание на две традиции, лежащие в основании московско-тартусской трактовки семиотики: лингвистическую с ее установкой на язык и литературоведческую, естественно, ориентированную на текст. В нашем случае сосуществование этих двух традиций можно переписать как наличие двух принципиально разных возможностей семиотического определения культуры и истории: опирающуюся на грамматическую модель языка или на риторическую модель текста.
Семиотический анализ в трактовке Ю.М. Лотмана дает два возможных пути: с одной стороны, парадигмальный анализ всей совокупности знаков в их функциональном значении, с другой – синтагматический анализ, который включает изучение текста как нарративной последовательности. Семиотическая нарратология затрагивает нарративы любого типа – литературные и нелитературные, вербальные или визуальные, но стремится сосредоточиться на минимальных нарративных единицах.
Можно также выделить еще одно направление семиотических исследований, основы которого заложили Л.С. Выготский и М.М. Бахтин: психоаналитический подход. С М.М. Бахтина культурные действия мыслятся в терминах непрекращающегося взаимодействия, борьбы или диалога культуры и ее «другого». Внимание исследователей перемещается на границы поля культуры. Решающей проблемой данного подхода является континуальное ускользание не-знака, который, будучи пойманным в аналитический каркас, теряет свою тождественность благодаря означению. Аналитик имеет дело с вторичными, конвертированными и культурно данными формами, вместо того чтобы иметь дело с «естественными феноменами».
Еще один аспект семиотического анализа – это определение деннотации и коннотации знака и знаковой системы как таковой, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность знаковых кодов. Таким образом, семиотика стала вершиной развития структурализма как методологического дискурсивного поля и открыла четко сформулированные законы анализа живописного произведения, понимаемого как совокупность знаков, собирающихся в единое тело нарратива.
С точки зрения герменевтики задача исследователя заключается в истолковании предельных значений культуры, поскольку реальность мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой совокупность основополагающих текстов. Процесс понимания М. Хайдеггер рассматривает как движение по так называемому герменевтическому кругу. С одной стороны, текст рассматривают по отношению к эпохе, литературному жанру. С другой стороны, текст является духовной жизнью автора, а сама его духовная жизнь является частью исторической эпохи. Представление текста с этих двух позиций, переход от общего к частному и обратно и есть движение по герменевтическому кругу. Большое внимание М. Хайдеггер уделяет проблеме герменевтического круга, определяя его как механизм, с помощью которого осуществляется процесс «смыслового движения понимания и истолкования». «Кто хочет понять текст, тот всегда делает предположение. Он предполагает смысл целого, который кажется ему первым смыслом в тексте. Так получается потому, что текст читают уже со значительным ожиданием определенного смысла» [5, c. 252]. Гадамер считает понимание методической операцией, результатом которой является реконструкция смысла текста, опирающаяся на интерпретационную гипотезу.
Таким образом, основные методологические установки, сложившиеся в теории герменевтического понимания культуры, выводят нас на новый уровень интерпретации смысла художественного произведения, который характеризуется не формальными методами текстуального постижения смысла, а вводит в творческую лабораторию исследователя культуры психологические методы и приводит к пониманию полиморфности и бесконечности герменевтических связей, характеризующих произведение.
Концепты «диалогизм» и «хронотоп» [1, c. 234] были введены в научную лексику отечественного социогуманитарного знания М.М. Бахтиным. Проблема, поднятая ученым, затрагивает вопрос взаимодействия и соотнесения философии и наук исторического опыта с самим историческим опытом. Рассматривая художественное произведение, а шире и сам исторический опыт, М.М. Бахтин приходит к выводу, что они не являются данностью, а открываются и динамически развиваются в соответствии с процессом восприятия произведения реципиентом. То есть форма художественного произведения оказывается несущественной для исследователя. Важными становятся контекст, автор и авторство, диалог автора и героя, автора и зрителя с позиций «вненаходимости». Для участников диалога необходимо осознать, что изучаемый предмет не является объектом приложения исследовательского интереса, но предмет является таким же субъектом, который оказывает определенное влияние на исследователя в данном времени и пространстве [17, с. 27–33].
По словам Г.-Г. Гадамера, этот поворот в событии исследователя, автора, произведения и героя «стал поворотом от мира науки к миру жизни» [4, с. 7]. М.М. Бахтин понимает культуру не как текст, а как «высказывание», то есть процесс речи. Он деконструирует классический логоцентризм методологии Нового времени и переходит в плоскость практической философии, где главной становится способность здраво поступать и вести себя в данных конкретных обстоятельствах, на языке М. Хайдеггера, в качестве «бытия здесь» (Dasein). Его философия «высказывания» – это программа гуманитарно-философского мышления, освобожденного от рудиментарного естественнонаучного теоретизирования Нового времени, монологически конституирующего мир, а не встречающегося с миром в его конечной бесконечности. То есть художественное произведение становится для Бахтина проблемным полем, в пространстве которого в определенный момент времени встречаются в контексте диалога реальные субъекты жизни художественного произведения.
Таким образом, мы подходим к основному методологическому выводу относительно изучения изобразительного искусства Серебряного века. Ризоматическая модель культурного пространства была предложена французскими мыслителями-постструктуралистами Жилем Делезом и Феликсом Гваттари [8]. Подход, который они определили термином из ботаники (ризома), подразумевает собой вне-структурный и нелинейный способ организации целостности, оставляющий открытой возможность для имманентной автохтонной подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего креативного потенциала самокон-фигурирования, что вписывается в то же время в методологическую установку теории самоорганизующихся систем (синергетика) [8, с. 657]. Данная методологическая установка созвучна идее М.М. Бахтина об «открытости» художественного произведения, полимор-фности его восприятия. Ризома может быть интерпретирована как принципиально открытая среда – не только в смысле открытости для трансформаций, но и в смысле ее соотношения с внешним. Здесь нет ни внешнего, ни внутреннего – ризома распространяется абсолютно на все пространство культуры как таковой и не имеет ни начала, ни конца. Среди последовательно сменяющих друг друга виртуальных структур ни одна не может быть аксиологически выделена как наиболее предпочтительная, – автохтонная в онтологическом или правильная в интерпретационном смыслах. В любой момент времени любая линия ризомы может быть связана с любой другой линией, образуя, таким образом, временное перманентное пространство или плато. То есть культурное явление или произведение изобразительного искусства возможно изучать только в совокупности случайных контекстуальных связей, образуемых в ходе динамической имманентной самоорганизации культурного пространства. Ризоматическая модель культуры, таким образом, это не столько схема, сколько сам принцип организации культурного пространства, в котором отдельные материальные элементы находятся в так называемом теле без органов, которое понимается как принципиально нематериальное соотношение планов имманенции (широта или повышение/ понижение) и консистенции (долгота или ускорение / замедление), определяющее бесконечное множество форм переплетения составных частей культуры.
Ризоматическая модель культуры Ж. Делеза и Ф. Гваттари синтезирует в своем дискурсивном поле практически все возможные методики изучения культурного пространства в целом и изобразительного искусства Серебряного века в частности, как одну из многих уникальных форм переплетения ри-зоматических линий и невероятного ускорения и повышения в плане имманенции и консистенции.
Таким образом, мы можем говорить о том, что исследователь, пользуясь одной или несколькими методологическими установками, неизбежно попадает в «прокрустово ложе» собственных концептуальных построений. Многообразная ризоматическая реальность, которая характеризуется бесконечным количеством линий ускользания в сторону трансцендентного метатекста или же в сторону имманентной структурной организации, не может вписаться в конкретном культурно-историческом исследовании в заявленную методологическую установку. Следовательно, при изучении изобразительного искусства Серебряного века исследователь обречен либо оставаться необъективным и игнорировать реальность (практически по С. Жижеку: «Если реальность не умещается в вашей теории, что ж, игнорируйте реальность») [10], либо принять во внимание диалогичность культуры, а живописное произведение рассматривать исключительно в контексте диалога с культурно-исторической эпохой создания полотна, психологией автора, восприятием рецепиента, позицией и уровнем научного обобщения исследователя и т. д. То есть культурно-историческое изучение художественного произведения вынуждено оставаться в незаконченном состоянии, для того чтобы была возможность диалога и продолжения развития концептуальных положений исследования, поскольку любая законченная форма есть репрезентация монологической речи, которая конституирует реальность, создавая, таким образом, «памятник» культуры, который можно осознать исключительно как памятник, а не как дискурсивное проблемное поле, выражающее позицию автора и отношение к проблеме зрителя.
Можно сделать основные выводы:
– изучение изобразительного искусства Серебряного века в методологическом плане должно опираться на теорию нелинейных са-моразвивающихся систем и синтез междисциплинарных методов, необходимых для их изучения;
– внутренние отношения между субъектами культурной деятельности характеризуются беспрерывным диалогом равноправных субъектов; диалог в свою очередь создает проблемное поле, которое и становится для историка культуры объектом изучения.
Список литературы Методологические подходы к изучению культуры Серебряного века
- Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского/М. М. Бахтин. -М.: Сов. писатель, 1963. -363 с.
- Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике/М. М. Бахтин//Вопросы литературы и эстетики: сборник. -М.: Хуцож. лит., 1975. -С. 234-407.
- Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат/Л. Витгенштейн; пер. с нем. Л. Добросельского. -М.: АСТ, 2010. -192 с.
- Володина, Т. И. Модерн: проблемы синтеза искусств. Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. В 2 кн. Кн. 1/Т. И. Володина. -М.: НИИ PAX, 1997. -С. 261-276.
- Гадамер, Г. Г. Актуальность прекрасного/Г. Г. Гадамер. -М.: Искусство, 1991. -368 с.
- Гадамер, Г. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: пер. с нем./Г. Г. Гадамер; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. -М.: Прогресс, 1988. -704 с.
- Делез, Ж. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения/Ж. Делез, Ф. Г ваттари; пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. -Екатеринбург: У-Фактория, 2007. -672 с.
- Делез, Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения/Ж. Делез, Ф. Гваттари. -Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. -895 с.
- Дуденков, В. Н. Философия веховства и модернизм/В. Н. Дуденков. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. -159 с.
- Жижек, С. Бог был программистом нашего мира../С. Жижек. -Электрон.текстовые дан. -Режим доступа: http://theoryandpractice.ru/posts/1798-slavoy-zhizhek-bog-byl-programmistom-nashego-mira-no-onbyl-lenivym-programmistom (дата обращения: 10.01 2013). -Загл. с экрана.
- Исаев, И. Русская буржуазная культура начала ХХ века: эстетические тенденции и тупики развития. Социально-культурный контекст искусства: историко-теоретический анализ/И. Исаев. -М.: [б. и.], 1987. -С. 134-152.
- Казин, А. Л. Неоромантическая философия художественной культуры (к характеристике мировоззрения русского символизма)/А. Л. Казин//Вопросы философии. -1980. -№ 7. -С. 143-154.
- Кибасова, Г. П. «Власть» пространства/Г. П. Кибасова, А. В. Петров, Т. К. Фомина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия, социология и социальные технологии. -2012. -Вып. 1. -С. 27-33.
- Кувакин, В. А. Религиозная философия в России/В. А. Кувакин. -М.: Мысль, 1980. -309 с.
- Осокин, Ю. В. Системный подход в культурологии/Ю. В. Осокин//Культурология. ХХ век: энциклопедия. В 2 т. Т. 2. -СПб.: Унив. книга: Алетейя, 1998. -С. 213-215.
- Петров, А. В. Традиции и инновации в сохранении российского культурного наследия/А. В. Петров, О. В. Галкова//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2012. -№ 3. -С. 153-157.
- Петрова, И. А. Особенности развития культуры ХХ века/И. А. Петрова. -Волгоград: ВМА, 2001. -138 с.
- Постмодернизм: энциклопедия.-Мн.: Интерпрессервис: Книж. дом, 2001.-1040 с. -(Серия «Мир энциклопедий»).
- Цвик, И. Я. Религия и декадентство в России/И. Я. Цвик. -Кишинев: Штиинца, 1985. -191 с.
- Черемушникова, И. К. «Ускользающий феномен»: к вопросу о методе исследования имиджа/И. К. Черемушникова//Философия социальных коммуникаций. -2011. -№ 1(14). -С. 123-130.
- Ямпольский, М. Б. Наблюдатель: Очерк истории видения/М. Б. Ямпольский. -СПб.: Сеанс, 2012. -344 с.