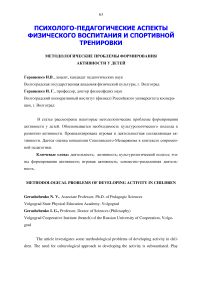Методологические проблемы формирования активности у детей
Автор: Геращенко Н.В., Геращенко И.Г.
Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist
Рубрика: Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки
Статья в выпуске: 3 (21), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены некоторые методологические проблемы формирования активности у детей. Обосновывается необходимость культурологического подхода к развитию активности. Проанализирована игровая и деятельностная составляющая активности. Дается оценка концепции Соколянского-Мещерякова в контексте современной педагогики.
Деятельность, активность, культурологический подход, этапы формирования активности, игровая активность, совместно-разделенная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/140229060
IDR: 140229060
Текст научной статьи Методологические проблемы формирования активности у детей
Важнейшей проблемой физкультурного образования, педагогической теории и практики является формирование активности ребенка. Эта активность представляет собой сложное сочетание физических, психических, биологических и духовных качеств. Реалии сегодняшнего процесса образования таковы, что все большее внимание уделяется изучению и воспитанию личностной активности будущего гражданина. При этом активность берется не столько в коллективном, сколько в субъективно-индивидуальном плане, что связано с изменением методологических и психолого-педагогических ориентиров в постиндустриальном обществе. Признавая неизбежность такой трансформации, необходимо, тем не менее, выяснить, что относиться к коллективному, а что к индивидуально-личностному при формировании активности ребенка.
В частности, не удается обойти стороной вопрос об объективации этой активности, поскольку личность ребенка необычайно сложна и несводима к элементарным составляющим материальной деятельности. Культурологичность педагогического подхода в настоящее время проявляется в том, что активность воспитуемого не сводится лишь к материально-практической и интеллектуальной деятельности, а закладывается еще иррациональная, мистическая, эзотерическая активность, которая также нуждается в методологическом осмыслении.
К.Д. Ушинский, один из основателей антропологического подхода в педагогике, писал: «Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии» [6]. В данном высказывании заложен глубокий методологический ориентир для современной педагогики по формированию активности ребенка. К.Д. Ушинский, как известно, был большим почитателем Гегеля и исходил из внутренней противоречивости человека, который одновременно и слаб, и велик. Причем слабость и величие человека заложены в ребенке изначально, однако, лишь в качестве предпосылки.
Ученик не является только объектом образования, а педагог – исключительно субъектом. И в том, и в другом случае осуществляется взаимопроникновение: обучаемый обучает, а обучающий обучается. Выгода отсюда получается обоюдная, т.к. происходит не только передача и восприятие суммы знаний, умений и навыков, но и твор- ческое саморазвитие обоих агентов педагогического взаимодействия. Активность обладает прагматической составляющей, направленной не только во вне, но и на себя. Происходит, если можно так выразиться, «расширенное воспроизводство» активности, а значит, усиливается и конкурентность человека в условиях современного общества.
Подлинная активность в обучении достигается лишь во взаимодействии и диалоге. При этом практическая активность ребенка должна быть сопряжена с диалоговой активностью, когда предметная деятельность дополняется словесной и наоборот. Вот почему особенно эффективной является, в этом смысле, педагогика диалога культур. В системе «педагог-ребенок» неизбежно присутствует культурологическая составляющая, когда в процессе предметно-практической и диалоговой деятельности трансформируется целая культура через ее отдельного носителя.
Формирование активности тесно связано с формированием ума, но, как верно отметил А. Бергсон, «классическое образование развивает ум наилучшим образом» [1]. Сейчас это нередко упускается из вида, когда изучение латыни или древнегреческого языка считается пустой тратой времени. На самом деле, именно в классическом образовании закладывается подлинная интеллектуальная активность, которая затем может быть реализована в различных формах духовного труда, начиная от бизнеса и заканчивая научно-исследовательской деятельностью.
Сознание активно, в том числе и потому, что оно избирательно к условиям материального мира. Но на высших этапах развития человека и общества эта избирательность перестает определяться исключительно необходимостью физического выживания. Возникает «установка» на духовное творчество и самосовершенствование, которая, нередко, пересиливает даже тяготы материальной жизни.
Для понимания процесса формирования активности ребенка крайне важна современная оценка Загорского эксперимента по воспитанию слепоглухонемых детей. Если в советский период преобладала идеологическая восторженность по поводу результатов данного эксперимента, то в период перестройки создатели данного эксперимента были обвинены в научной недобросовестности. Прошедшие годы, как нам думается, позволяют дать более взвешенную оценку Загорскому эксперименту.
Педагогическая концепция Соколянского-Мещерякова исходила из того, что до начала практической деятельности ребенка активность как таковая отсутствует, ибо последняя не сводима к биологическим составляющим, к психике. Двигательная активность, конечно же, присутствует и у новорожденного ребенка, и у слепоглухонемого.
Но возможно ли считать ее собственно человеческой активностью, ведь двигательной активностью обладает любое животное.
Человеческая активность не может самопроизвольно возникнуть «внутри тела» данного субъекта образования, но точно также она не появляется в результате механического перенесения и передачи активности от обучающего к обучаемому. Получается парадоксальная ситуация, когда активность возникает и не возникает в процессе образования. Обучение создает как бы форму существования активности, сама же последняя оказывается трудно уловимой. Чтобы решить данную проблему, необходимо найти такую реальность, которая была бы объединением противоположностей, образующих полюса человеческой активности (обучаемый и обучающий). Таким единством противоположного выступает совместно-разделенное предметное действие. «Разделенное предметное действие как раз и есть та клеточка, из которой вырастает весь «организм» человеческого поведения и психики» [4]. В совместно-разделенном действии объединены противоположные свойства, находящиеся как на стороне обучаемого, так и на стороне обучающего. В нем дано не просто действие обучаемого или обучающего, а действие действия, замыкание и оборачивание действия на само себя, наложение и взаимопроникновение двух противоположных действий, из которых только и может развиться полноценная человеческая активность. Такова позиция А.Н. Мещерякова, в которой, на наш взгляд, много верного.
Противники Загорского эксперимента выступают против того, что формирование активности ребенка исключительно зависит от социальной деятельности педагога. Они полагают, что активность у человека существует изначально на биологическом уровне, а педагог всего лишь развивает данную активность в процессе воспитательного взаимодействия. С этим можно было бы частично согласиться, если бы активность не понималась здесь как собственно человеческая деятельность. Последняя именно и возникает исключительно в ходе социального (прежде всего, предметно-практического) взаимодействия.
Еще одним доводом против Загорского эксперимента является его, якобы, научная недостоверность вследствие того, что обучаемые потеряли зрение и слух не с момента своего рождения, а несколько позже. Отсюда делается вывод, что активность уже была сформирована в ребенке, в том числе и в результате «стихийного научения». Против того, что стихийное обучение необходимо и неустранимо, никто и не возражает, поскольку на ребенка уже во внутриутробный период развития оказывается различное социальное воздействие, которое трудно прогнозируемо.
Несогласие вызывает другое. Чтобы обучение слепоглухонемого ребенка «было успешным, – пишет Ю.В. Пущаев, – обучаемый должен понимать, зачем и почему это надо делать» [5]. Если брать начальные моменты формирования социальной активности у ребенка, тем более слепоглухонемого, то он просто не в состоянии осознать, зачем необходимо то или иное действие взрослого человека, поскольку у ребенка еще отсутствует мышление, отвечающее за процесс понимания. В этом-то и заключается смысл совместно-разделенного действия, которое является первоначальным материальным носителем совместно-разделенного мышления. После того, когда зачатки мышления сформированы, ребенок, конечно же, должен понимать, зачем и почему педагог требует от него поступать так или иначе. Принцип сознательности в образовании, как известно, является определяющим.
На основании культурологической концепции формирования активности можно сделать практический вывод, который идет в разрез со следующим заявлением экзистенциальной педагогики: ребенок в процессе образования должен как можно меньше объективироваться в продуктах своей деятельности. В действительности, наоборот, объективация – важнейший фактор воспитания активного поведения. Возможно, деятельность и важнее своего продукта, но только этот последний становится критерием качества самой деятельности. Процесс образования, поэтому, предполагает максимальную объективацию, а не постоянное прислушивание к различным нюансам своего духовного самочувствия.
Вот почему игровыми концепциями образования, на наш взгляд, ограничиваться нельзя. Игра – не отличительная особенность человека. Играют и высшие животные, но это не ведет к их развитию в культурном плане. Кроме того, цель игры – получение удовольствия, а этим не исчерпывается все богатство образовательного процесса. В ходе игры главное не объективация, а процесс ради самого процесса. Игровые методы формирования активности ребенка крайне важны, но их нельзя абсолютизировать и ограничиваться исключительно ими. В совместно-разделенном действии также может присутствовать игровая составляющая, но как подчиненный момент. В процессе непрерывного образования в течение всей жизни человека игра продолжает сохранять свою актуальность, но это не означает, что она является главным фактором формирования социальной активности человека.
Формирование активности происходит поэтапно. В начале образования действие ребенка полностью направляется действиями взрослого. По мере практического обучения происходит своеобразное социальное «заражение» активностью, когда ребе- нок начинает воспринимать чужое действие как свое собственное. Возникает второй этап в формировании активности – совместно-разделенное действие. Третий этап в формировании активности – это возникновение собственной активности ребенка. Получается, что активность – это комплексно-системная способность человека. Она возникает в результате образования при условии соблюдения органически-целостного подхода к ее формированию.
О первоначальной включенности активности в практическую деятельность свидетельствует тот факт, что на ранних этапах развития ребенок не реагирует на предметы, которые не затрагивают его жизненно важных функций. Воспитание слепоглухонемых доказывает, что вещи с опредмеченной активностью попадают в поле зрения ребенка, если они в состоянии удовлетворить, в том числе, и биологические потребности. Коробка спичек или карандаш выпадают из руки ребенка, не вызывая активного ощупывания их контуров. Напротив, засорившаяся соска или измененная форма ложки вызывают активную ответную реакцию. Познавательная активность не присуща зарождающемуся мышлению ребенка, вернее она существует только как возможность. Это же положение отмечал и Л.С. Выготский. К аналогичным выводам, но уже применительно к первобытному мышлению человека, приходит и Л. Леви-Брюль [3].
Там, где появляется собственно активное поведение ребенка, а не его предпосылки, там обязательно присутствует осознанность. Сознательное усвоение связано, в первую очередь, не с овладением системой знаний, а с восприятием практических умений и навыков. Только на основе этого восприятия возможно усвоение знаний. О единстве активности и сознательности свидетельствует факт, доказанный психологией, что всякое состояние сознания связано с двигательными процессами. Даже на уровне психологии является истиной неразрывная связь активности и сознательности, ибо осознанная деятельность пронизывает все свойства психики человека, включая и иррациональные. З. Фрейд выдвинул известное положение о том, что в сновидениях человека нет ничего случайного, т.е. для сновидений присуща своя логика, являющаяся своеобразным отражением деятельности человека в состоянии бодрствования.
Активность изначально предполагает деятельность по ее осуществлению, которая образует необходимую форму реализации активности. Последняя может присутствовать в форме трудовой деятельности, интеллектуальной, эстетической и т.п. И активность, и деятельность социальны, они различаются между собой только как содержание и форма. При этом, активность и деятельность не тождественны мышлению, хотя и образуют его предпосылку. Можно быть очень деятельным человеком, оставаясь интеллектуально неразвитым. Мы полностью разделяем точку зрения, что целью образования является подготовка ребенка к будущей деятельности в обществе, а содержанием образования - освоение общих методов и форм человеческой деятельности [2]. Тем самым понятия «активность» и «деятельность» становятся основополагающими категориями и принципами современной педагогики.
Активность формируется в общении, которое следует понимать не только как связь одного человека с другим или даже человека с обществом вообще, а как универсальную характеристику человеческого бытия, в котором эта характеристика получает свое наиболее конкретное воплощение. Иногда теория образования исходит из редукционистского понимания общения, когда оно рассматривается исключительно в контексте взаимоотношений учителя и учеников, учащихся друг с другом. Здесь не учитываются следующие методологические положения: во-первых, общение с предметами культуры (и прежде всего, предметно-практическое) не менее важно, нежели общение с педагогом; во-вторых, все особенные формы общения имеют своим исходным пунктом и конечным результатом всеобщую коммуникацию ребенка с природой и социумом.
Велика также роль коллектива в формировании активности, особенно в детском возрасте. Однако коллективы бывают различными по своему педагогическому воздействию. Дело в том, что коллектив может преследовать свои групповые цели (коммерческие, карьерные и даже криминальные), в этом случае активность его членов не будет соответствовать подлинной активности, конечной целью которой является по-ликультурное развитие личности. Школьный коллектив иногда определяется как основной детерминирующий фактор поведения учащихся, который дополняется воспитанием в семье, воздействием улицы и т.п. Образовательный коллектив важно исследовать в контексте всего социального воздействия на человека, где школьное обучение образует всего лишь частный случай. Такие попытки сейчас делаются, в частности, в концепции непрерывного образования, и роль коллектива на всем протяжении этого образования оказывается весьма неоднозначной.
Подводя итог вышеизложенному, следует еще раз подчеркнуть, что социальная активность ребенка потому и называется социальной, что формируется исключительно под воздействием социума, а не каким-то иным способом. Начинает закладываться эта активность очень рано, по некоторым данным, с внутриутробного развития, где присутствует опосредованное социальное воздействие на плод. Важнейшим средством зарождения активности становится совместно-разделенная деятельность в системе «ребенок–педагог». Методологический аспект формирования социальной активности ребенка заключается в том, что сама эта активность рассматривается в контексте общечеловеческой деятельности, а понятия «активность» и «деятельность» становятся основополагающими категориями и принципами современной педагогики, в том числе и физкультурного образования.
Список литературы Методологические проблемы формирования активности у детей
- Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование//Вопросы философии. -1990. -№ 1. -С. 163-168.
- Боровских А.В., Розов Н.Х. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике//Вопросы философии. -2012. -№ 5. -С. 90-102.
- Геращенко И.Г., Геращенко Н.В. Педагогическое творчество: методологический и социокультурный подход//Инновации в образовании. -2016. -№ 10. -С. 120-128.
- Мещеряков А.Н. Слепоглухонемые дети. -М.: Педагогика, 1974. -328 с.
- Пущаев Ю.В. История и теория Загорского эксперимента. Начало//Вопросы философии. -2013. -№ 3. -С. 132-147.
- Ушинский К.Д. Теоретические проблемы воспитания и образования//Избранные педагогические сочинения: в 2 т. -Т.1. -М.: Педагогика, 1974. -584 с.