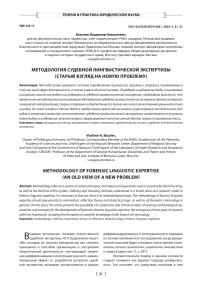Методология судебной лингвистической экспертизы (старый взгляд на новую проблему)
Автор: Базылев В.Н.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
Методологией именуют систему определенных принципов, приемов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности, а также учение об этой системе. Определяя и выбирая методы, понимаемые в широком смысле как модель исследования в судебной лингвистической экспертизе, необходимо выяснить, что является ее методологическим основанием. Методология судебной лингвистической экспертизы должна отдавать приоритет материализму, теории отражения и диалектической логике, как и вся отечественная криминалистика в целом. На этой основе в статье дается продуктивно-критический анализ существующих методических подходов и концепций развития отечественной судебной лингвистической экспертизы, возникновения в ее рамках новых видов исследования, включая вопросы формирования научного знания данной отрасли криминалистики.
Методология, метод, материализм, теория отражения, диалектическая логика, судебная лингвистическая экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/14132283
IDR: 14132283 | УДК: 343.13 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_5_21_31
Текст научной статьи Методология судебной лингвистической экспертизы (старый взгляд на новую проблему)
Выражая актуальную позицию отечественной судебной экспертизы, Ю.П. Буруленков пишет: «Мы исходим из понятия методологии как системы принципов и способов организации и построения теоретической деятельности, учитывающей тенденции дифференциации и интеграции научного знания. Наивысший эффект от разработки вопросов судебной экспертизы возможен исключительно в рамках дифференцированного и интеграционного подходов на основе комплексного исследования, когда юридическое познание будет учитывать точки зрения гносеологии, логики, психологии, социологии, лингвистики и права в единстве» [7, с. 207].
Лингвистический подход в данном контексте следует понимать как вариант подхода универсального. Это означает, что средством познания в нем выступают законы логики и способы мышления. Соответственно, в языке они также могут быть выявлены путем специального анализа и синтеза языковых контекстов.
Это, на первый взгляд, – тривиальные предпосылки в работе отечественных экспертов-гуманитариев, когда речь идет именно о серии гуманитарных судебных экспертиз – не только автороведческой и лингвистической, но и психолингвистической, религиоведческой, политологической, и даже этиковедче-ской, как официально заявлено министром юстиции РФ К.А. Чуйченко [12; 37].
Однако это только на первый взгляд. Современная отечественная судебная «гуманитарно ориентированная» экспертиза – феномен достаточно парадоксальный. Она изначально (если говорить об авто-роведении и первых наработках в исследовании продуктов речевой деятельности, в частности текстов, в 60 – начале 70-х годов прошлого века) была частью отечественной криминалистики. Как и последняя, она ориентировалась в своих методологических основах на материализм, теорию отражения и диалектическую логику. Изменившая идеологическая ситуация 90-х привела к отказу еще не «окрепшего» вида судебной экспертизы – лингвистической – от традиционной методологии и замене ее англо-американской философией позитивизма.
Как тут не вспомнить ленинскую мысль о «детской болезни». Дело в том, что позитивизм, на который стала ориентироваться отечественная гуманитарная наука в целом с середины 80-х годов прошлого века, утверждает единственным источником истинного, действительного знания и отрицает познавательную ценность собственно философского основания исследования. Тезис позитивизма – всё подлинное (позитивное) знание есть совокупный результат специальных наук – ведет к приоритету метода, отрицая при этом не только философию, но и методологию. Он открывает возможность отказа от единого философского базиса, заменяемого множеством методов, а также сочетанием методов, взятых из различных научных дисциплин.
По меткому замечанию Н.А. Некрасова: «Что ему книга последняя скажет,|| То на душе его сверху и ляжет» (Некрасов Н.А. Саша).
То есть в основу научного исследования кладется не философия, а постулат, что содержание научного знания зависит от интерпретации источников исследователем и является относительным.
Ответ на вопрос, почему так быстро произошла деконструкция философской парадигматики в постсоветском гуманитарном научном сообществе, достаточно прост. У целого поколения советских гуманитариев остался горький привкус абстрактных философских спекуляций марксистской риторики. В советский период, особенно с начала 70-х, гуманитарное знание ассоциировалась с императивом марксистско-ленинской идеологии, призванного противопоставить истинную, то есть марксистскую науку, науке порочной, антинаучной, буржуазной. Немало бумаги и чернил было потрачено на теоретическое обоснование понятий «диалектическая, материалистическая, марксистская методология», поэтому в повседневной исследовательской практике необходимо было выискивать благотворное влияние этой единственно верной методологии, клятва верности которой являлась необходимым предпосылкой профессиональной научной деятельности.
Поэтому попытки построить монистическую философию и методологию гуманитарных наук так быстро сменил хаос и произвол, царящие в них по сей день. Очередной отказ от единого монистического философского базиса привел к заполнению создавшегося вакуума неограниченным количеством методов исследования. Они сопровождаются нескончаемыми попытками заявить об обнаружении нового и новейшего предмета исследования в твердой уверенности, что российской земле под силу рождать не только собственных Платонов, но и собственных Делёзов .
Этим, как считает «молодое поколение гуманитариев», мы отдаем долг европейской предметной стратегии философского познавательного процесса, восходящей к модели, предложенной Ф. Бэконом и Р. Декартом. Однако при этом забывают, что уже к концу XVIII века она стала приобретать, по словам Гегеля, характер «дурной бесконечности» – dasSchlecht-Unendliche, что лучше было бы перевести сегодня как «слабо структурированная бесконечность».
Именно она допускает сегодня в отечественной судебной лингвистической экспертизе неограниченную делимость предмета познания, монотонность и повторяемость отдельных фрагментов знания, не ведущих, в конечном итоге, к выстраиванию завершенной экспертной методики. Как тут не вспомнить басню С. Михалкова «Слепые и слон», написанную в 1968 году по поводу сложившейся тогда ситуации в советской науке в целом.
Пугающе симптоматично выглядит в связи со сказанным выше возврат к вненаучным метафорическим основам, на которых предлагается осуществлять судебную лингвистическую экспертизу. Сошлемся на современный учебник по судебной лингвистической экспертизе Е.И. Галяшиной, по которому учатся студенты МГЮУ имени О.Е. Кутафина. Учебник открывается философско-методологическим посылом: «Общественно значимая роль лингвистической экспертизы во многом определятся тем, что ее объектом является мысль, материализованная в Слове» [11, с. 7]. Обратим внимание на прием графодеривации, используемый автором, – прописной шрифт. Первая и единственная ассоциация «В начале было Слово…» (Иоан. 1:1). Но разве не в конце XVIII века гетевский Фауст произнес свой монолог?
«В начале было Слово». С первых строк|| Загадка. Так ли понял я намек?|| Ведь я так высоко не ставлю сло-ва,|| Чтобдумать, что оно всему основа.|| «В начале мысль была». Вот перевод.|| Он ближе этот стих передает.|| Подумаю, однако, чтобы сразу|| Не погубить работы первой фразой.|| Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?|| «Была в начале сила». Вот в чем суть.|| Но после небольшого колебанья|| Я отклоняю это толкованье.|| Я был опять, как вижу, с толку сбит: || «В начале было дело», – стих гласит (Гете И.В. Фауст / пер. Б. Пастернака).
В начале было, есть и остается дело, деятельность, в том числе противоправная. Вот что значимо для криминалистики и, соответственно, экспертоло-гии, если принимать современную классификацию родов и видов экспертиз, базирующихся на той или иной отрасли научного знания, – каждой со своими объектами, предметами, методами и методиками.
Проблема в том, что методология конкретной области научного знания, конкретной частной науки, с необходимостью базирующаяся на философских принципах, не сводится к системе используемых в этой науке методов исследования, отражения своего предмета. При такой трактовке науки, в частности науки о языке, отступает на второй план главное – ее мировоззренческое значение, философский смысл.
Современная отечественная криминалистика не утратила то, на чем она основывалась и развивалась на протяжении прошлого столетия, – она имеет своим содержанием философское, т. е. рациональное научное познание [19, с. 6]. К сожалению, это не присуще современной отечественной экспертологии.
А ведь общефилософской основой как формой познания и системой знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах реальности (бытия), а также бытия человека и отношении человека и окружающего его мира, выступает материализм.
При этом совокупность векторов познания во всех науках (в юриспруденции – прикладной юриспруденции, криминалистике, экспертологии, в науке о языке) в данный исторический период обусловлена эпистемой, то есть условиями существования форм знаний. Именно эти условия исходя из основополагающего тезиса М. Фуко создают аппарат производства знаний [41, с. 38].
Эпистема представлена в каждый конкретный отрезок исторического времени существования научного сообщества набором объясняющих парадигм, то есть, по Т. Куну, конкретной моделью (методом) научной деятельности [17, с. 14-15].
В этой связи, если опираться на фундаментальные работы Р.С. Белкина, важным окажется следую- щее:«Методология конкретнойобласти научногозна-ния, конкретной частной науки не сводится к системе используемых в этой науке методов исследования, отражения своего предмета. Отождествление методологии с системой методов исследования означает чисто прагматический подход. При такой трактовке методологии отступает на второй план главное – ее мировоззренческое значение, философский смысл. Методология конкретной науки – это система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов, это научной отражение предмета данной науки (раздела науки)» [5, с. 322].
Принимая положение о том, что отечественная судебная экспертиза (в том числе судебная лингвистическая экспертиза) основана на философии материализма, приоритетное значение сегодня имеют ее связи с диалектической логикой, в первую очередь с такой концептуальной категорией философии материализма, как отражение.
Эпистема, в рамках которой формируется аппарат производства знаний отечественной судебной экспертизы (в том числе судебной лингвистической экспертизы), – структурализм. Поясним: структурализм – обобщенное наименование способов познания в ХХ – начале XXI века, связанных с выявлением структуры системы, то есть совокупности таких многоуровневых отношений между элементами целого, которые способны сохранять устойчивость при разнообразных изменениях и преобразованиях.
В рамках эпистемы структурализма судебная лингвистическая экспертиза использует методы актуальных парадигм науки о языке. Научная парадигма – принятая научным сообществом в данный отрезок времени модель научной деятельности, опирающаяся на признаваемые (принимаемые) в данный момент времени фундаментальные законы и понятия, «метафизические компоненты»: критерии, соответствие которым необходимо для восприятия объяснений фактов как научных; ценностные предпочтения (например, баланс между количественными и качественными стратегиями принятия решений, простотой и детальностью) [17, с.43]. Согласно положениям, сформулированными Р.С. Белкиным относительно криминалистики в целом, парадигмы либо не подвергаются трансформациям или же трансформируются, то есть изменяется содержание, условия, цели и результаты их использования [6, с. 89]. Речь идет, таким образом, об экстраполяции как средстве современного научного познания и способе оптимизации знания [25, с. 280-282].
Примером-иллюстрацией к данному тезису мо-жетслужить позицияА.Н. Барановаотносительнолинг-вистической экспертизы угрозы: «Угроза как феномен языка, речи и мышления реализуется в общественном и частном дискурсе в определенных правовых рамках. Соответственно, исследование угрозы должно предусматривать анализ когнитивной составляющей – особенности ментальных операций, совершаемых человеком, изучение языковых и речевых средств сообщения (передачи) угрозы в коммуникации и правовые аспекты регулирования дискурса в связи с ситуациями угрозы. Исследование когнитивного аспекта требует проведения экспериментальных исследований в определенной проблемной области, что выходит за рамки компетенции лингвиста (о методах подобных исследований [1; 8]). Однако некоторые аспекты когнитивного представления ситуации угрозы так или иначе представлены в семантической экспликации (толковании) слов, передающих соответствующую семантику. Лингвистические аспекты угрозы подробно обсуждаются ниже, но естественно начать с правовых аспектов категории угрозы – в том виде, в котором этот феномен упоминается в составах правонарушений в гражданском и уголовном законодательствах» [4, с. 5].
Повторимся, указав в свете сказанного выше на то, что основа отечественной криминалистики в целом и экспертологии (в данном случае мы придерживаемся терминологии, принятой в новой номенклатуре научных специальностей ВАК РФ с 2022 года [28; 31, с. 225-231]) в частности, – это, согласно Е.С. Лапиину, теория отражения и диалектическая логика [19, с. 5-10]. Теория отражения исходит из признания того, что материальный мир существует объективно и независимо от сознания человека. Дело в том, что отечественная философия ХХ века рассматривает сознание исключительно как форму движения материи [14], опираясь при этом на следующий тезис: «Отступление или отказ от диалектического материализма неминуемо ведет к скатыванию в идеализм, который бесповоротно закрывает дверь к объективной реальности, не в состоянии отделить объективную истину от иных учений» [21, с. 130].
Человеческая деятельность, в том числе противоправная, представляет собой сложную динамичную систему. Противоправная деятельность протекает во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими процессами и явлениями и, как всякий материальный процесс, отражается в окружающей среде. В области экспертной практики известен так называемый локаровский принцип обмена – принадлежащий Э. Локару тезис «каждый контакт оставляет след» [23, с. 10].
Отражение – всеобщее свойство материи, выражающееся в способности объектов запечатлевать результаты взаимодействия с другими объектами. Оно обеспечивается за счет различных форм движения материи, в том числе социальной. Элементами социальной формы движения материи являются языковая и речевая деятельность человека.
Диалектическая логика изучает способы мышления, обеспечивающие совпадение содержания знания с объектом, то есть достижение объективной истины. Она исходит из материалистического решения основного вопроса философии, рассматривая мышление как отражение объективной реальности. Диалектическая логика не отвергает законы формальной логики: диалектическая и формальная логики совместимы, на что советские философы указывали с начала 60-х годов со ссылкой на работу Ф. Энгельса «АнтиДюринг» [29, с. 94-95].
Методологически судебная лингвистическая экспертиза не может пользоваться методом абстрагирования. Эмпиризм и индукция – непродуктивный метод в экспертном познании продуктов языковой деятельности человека. В связи с сформулированным выше тезисом о том, что отечественная судебная экспертиза, начиная с ХХ века, функционирует в рамках парадигмального знания эпистемы структурализма, восходящего исторически к уликовой парадигме [13]; ее основной познавательной процедурой выступает абдукция.
Под абдукцией понимается выдвижение гипотез, именуемое также как «выведение наилучшего объяснения». Это метод логического мышления, цель которого – дать максимально правдоподобную интерпретацию тому, что считается истинным. Абдукция представляет собой вид редуктивного вывода с той особенностью, что из посылки, которая является условным высказыванием, и заключения вытекает вторая посылка. Важным представляется тот факт, что именно на абдукции была выстроена теория значения Ч. Пирса, основоположника семиотики. Абдукция – основной элемент логики в прикладном ее использовании, в том числе в системах искусственного интеллекта, что важно сегодня в свете проектов по цифровизации экспертных исследований, в том числе лингвистических. Данная тенденция начинает доминировать в экспертизах с ориентацией на логикоязыковой подход [30, с. 143-152].
Что касается структурализма в контексте истории философии, то сегодня он рассматривается как эпистема, затрагивающая все научные дисциплины с конца ХIХ – до начала XXI века.
В общем виде структурализм – это эпистеми-ческий подход в рамках материалистической философии, который утверждает, что объекты изучения в социальных и гуманитарных науках имеют относительную, а не субстанциональную природу. Сошлемся в качестве обоснования сказанного на ряд положений, высказанных М.В. Лебедевым. Социальный мир объясняется не в терминах индивидуального действия, а через отношения и отношения между отношениями; целое образуется как их дифференциальная артикуляция. Эта метатеоретическая установка обеспечивает до сегодняшнего дня европейской научной науке объединяющий и междисциплинарный подход. В основе структуралистской познавательной установки лежит холизм и философский объективизм. Структурализм предлагает целостную теорию знания на основе нового метода анализа эмпирических данных и, в философском плане, онтологию различия. Социальный мир познается через структуры, а не намерения, функции или историю. Структуры – это скрытые, бессознательные или глубинные основания, которые согласно кодам, логике или законам порождают поверхностные явления и события. Синхрония имеет приоритет над диахронией, а горизонтальные или «пространственные» отношения определяются структурными правилами. Критический метод позволяет идентифицировать и изучать конфигурации структур, объекты и их группы, структурные трансформации объектов. Рассмотрение структур сопровождается теорией означивания. Структурализм не отрицает (хотя и не требует) наличия глубинной или первичной структуры, как и возможности того, что носителем структур является индивид и что структуры могут быть нейрофизиологическими. Структурализм противопоставлял функцию герменевтике, систему – истории, трансформацию – эволюции, формализацию – описанию, синтаксис и семантику – интерпретации (герменевтике) [20, с. 48-56].
Исчислим основные черты структурализма как эпистемы, имеющие значение для судебной лингвистической экспертизы: тезис о важности структурной лингвистики для философии и социальной теории; подчеркивание относительной природы социальных целостностей – произвольная природа языкового знака и приоритет означающего над означаемым; децентрация субъекта; особое внимание к письму и тексту; конститутивная роль темпоральности (то есть параметра времени) для объектов и событий.
Напомним, что в структурной лингвистике принято исходное разграничение языка и речи / langue and parole.
Язык понимается как знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание).
Речь понимается как отдельные акты говорения и слушания, осуществляемые в общении [22, с. 412-414, 604-607].
Язык как объект исследования – это общественно-историческое явление, служащее средством выражения и объективации идеального, поскольку идеи не существуют оторвано от языка. Формирование и развитие категориальной структуры языка отражают формирование и развитие категориальной структуры человеческого мышления. Язык, как писал К. Маркс, «есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для каждого человека в отдельности, действительное сознание» [24, с. 29]. Объективность языка изначально отстаивает также отечественная психология [2, с. 38].
Язык является источником фактов, входящих в предмет судебной лингвистической экспертизы. Именно в этом ракурсе Ю.К. Орлов дифференцирует объект и предмет экспертизы в современной отечественной криминалистике [27, с. 21].
Разграничение языка и речи позволяет разграничить факты языка и факты речи в рассмотрении каждого из них в отдельности.
Помимо этого структурализм использовал понятие деятельности language. Тем самым разграничение языка и речи, по Ф. Соссюру, ведет к разграничению языковой и речевой деятельности [33].
Итак, следует говорить о том, что для судебной лингвистической экспертизы значение имеет следующее понимание языковой и речевой деятельности.
Языковая деятельность – деятельность индивидуальная, абстрактное мышление, мышление элементами языка, поток языковых представлений, основная, первичная сторона мышления, поток языковых представлений – переходный элемент, форма связи между материальными языковыми объектами и совокупностью представлений; результат деятельности – продукт, который не выводит эксперта за пределы языка.
Речевая деятельность – деятельность коллективная, элемент процесса социального взаимодействия субъектов с их познавательными способностями и высшими психическими функциями; результат деятельности – отпечаток речевого действия, который выводит эксперта за пределы речи в психологию сознания.
В процессе отражения могут быть задействованы сразу несколько форм движения – простые и сложные. Я.В. Комиссарова в своей работе указывает на то, что одна из таких сложных форм – это лингвопсихологическая (языковая и речевая) форма отражения, основанная на совокупности разноплановых процессов, позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире, времени, собственной личности, обеспечивающих преемственность опыта, единство и многообразие поведения [16, с. 131-141].
Руководствуясь представлениями о результате, которого он намерен достичь, человек выбирает способ совершения деяния. С точки зрения права – противоправного. Субъект действует в конкретной обстановке, совершая множество операций. Взаимодействуя с окружающей средой, он вносит в нее изменения – оставляет следы.
Понятие «след», разъясняет В.Я. Колдин, рассматривается в криминалистике как целостный объект – вещественное (овнешненное, опредмеченное)
доказательство, подлежащее исследованию и оценке в качестве суммарного источника сведений об объекте или процессе [15, с. 4].
Из перечисленного выше, по утверждению О.Н. Сафаргалиевой, для судебной лингвистической экспертизы важно следующее: след – это отражение деятельности субъекта преступления; след – это интегративная система, отражающая значимые для исследования особенности личности человека, совершившего противоправное деяние, – в нашем случае в первую очередь языковые, а также социальные, психологические и речевые; след – это процесс и результат взаимодействия субъекта с объектом, обретающий свое отражение, как в материальных объектах, так и в сознании людей [32, с. 161-166].
След – понятие родовое (как и соответствующий термин), видовыми понятиями (как и соответствующими терминами) следует считать «продукт» и «отпечаток». Так, по крайней мере, считает большинство нынешних авторитетных криминалистов [19, с. 103-104; 10, с. 189-194].
Лингвистическая экспертиза имеет дело исключительно с продуктом языковой деятельности как объектом исследования. Отпечаток является объектом исследования фоноскописта(одна из основных задач в фоноскопии – это установление дословного содержания речи субъектов) или психолога.
Наличие следа – продукта или отпечатка – представляет собой состоявшийся факт действительности. Лингвистическое исследование состоявшегося факта действительности всегда носит ретроспективный характер, предполагающий реконструкцию (внешнюю или внутреннюю, иначе, решение ситуационно-обстановочной диагностической задачи [11, с. 79]), – воссоздание формы и/или значения (как свернутого содержания).
Данные, полученные в ходе исследования, могут иметь прогностическую функцию, то есть использоваться для описания тенденций (вектора или эффекта, что является предметом исследования в психологии или психолингвистике) развития события, что, в свою очередь, возможно на основе статистических методов и методов на основе экспертных оценок.
Если речь идет о продукте, то след – материален. Эксперт имеет дело с его собственными свойствами. Если речь идет об отпечатке, то след – идеален. Эксперт имеет дело с отраженными свойствами. Такое также возможно в рамках теории отражения: отечественная криминалистика допускает идеальные следы преступления как криминалистически значимую (уголовно-релевантную) информацию, воспринятую и запечатленную человеком в виде мысленных (памятных) образов, которая может быть им воспроизведена в вербальной или иной форме либо извлечена из его памяти средствами, допустимыми для использования в уголовном судопроизводстве [35, с. 11].
Продукт языковой деятельности – текст (письменный или устный).Данное разграничение учитывает две формы существования языка – письменную и устную.
В соответствии с законодательной базой экспертной деятельности объектом судебной лингвистической экспертизы является текст как документ.
«Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы , предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза» [39].
Документ, в свою очередь, определяется как «материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения» [38].
Лингвистическая экспертиза в качестве объекта может иметь не любой языковой или речевой продукт, а только тот, который, по утверждению В.Д. Никишина, обладает качествами цельности, связности, завершенности и т.д., то есть является текстом [26, с. 80].
Понимание документа и, соответственно, текста в юриспруденции и в лингвистике идентично.
Текст – зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в общем плане связная и полная последовательность символов. В лингвистике текст понимается имманентно (философски нагружено) и репрезентативно. Имманентность подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его внутренней структуры. Репрезентативность – рассмотрение текста как особой формы представления о внешней по отношению к тексту действительности [9, с. 67; 19; 42].
Свойства и признаки продукта языковой деятельности человека – текста – создают достаточное условие для отнесения предмета к некоторому классу, а также для описания фактов, позволяют сделать вывод о наличии интересующего следствие событиях.
Этот тезис требует некоторого пояснения. Свойство в теории отражения, как это трактует А.И. Уемов, понимается как атрибут – сущность субстанции, существенное/неотъемлемое его состояние (в отличие от преходящих, случайных его состояний), необходимое для ее существования (бытия); атрибуты – независимы, то есть не могут влиять друг на друга, однако как для субстанции в целом, так и для каждой отдельной вещи выраженность существования через атрибут мышления согласуются [36, с 3, 8,
11-33]. Применительно к криминалистике, как уточняет Р.С. Белкин, свойство овнешняется (опредмечивается) признаками [6, с. 152].
Свойства объекта инвариантны. Инвариантность – это неизменность (сохранность) свойств материальной системы относительно какого-либо преобразования (операции). Таким образом, в тексте как одной из форм (пре)образования языка представлены свойства языка, дополненные обособленными свойствами самого текста как самостоятельной формы. «С точки зрения диалектического материализма законы сохранения показывают неуничтожимость и несотворимость движущейся материи со всеми ее свойствами в процессах ее перехода из одной формы в другую» [40, с. 418-419].
В свете сформулированных выше основных философских и лингвистических положений особо оговорим, что исследование продуктов языковой деятельности человека в ходе лингвистической экспертизы имеет своей целью установление фактов языка как источника доказательства по конкретному делу, без которого невозможно установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному, гражданскому или административному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного, гражданского или административного дела, как следует из ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [34].
Таким образом, предметом конкретной судебной лингвистической экспертизы, в том числе при экспертизе комплексной, является факты и обстоятельства (события), имеющие значение доказательства, и устанавливаемые на основе исследования следов (в виде продуктов) языковой деятельности по делам различных категорий.
При этом необходимо учитывать, что в современной, начала XXI века, лингвистике определились два направления, одно из которых тяготеет к собственно логическому анализу естественного языка, другое изучает логический аспект употребления языка. В рамках экспертной теории и практики, ориентированной на диалектическую логику, нас интересует именно логический анализ естественного языка. В этой парадигме единственно возможно непротиворечиво устанавливать факты, описывать и реконструировать события, а также устанавливать оценку фактов и событий.
Отталкиваясь от теории логического анализа языка, как она была сформулирована в парадигме «арутюновской школы» [3], поясним, как в судебной лингвистической экспертиза следует понимать факт, событие и оценку.
Факт – единица конкретного (эмпирического) знания, полученного в результате наблюдений или опытных данных.
Содержательно объем факта предопределен синтаксическим объемом сверхфразового единства. В отличие от описания события минимальным синтаксическим объемом (в русском языке односоставным или двусоставным простым предложением) описание факта в синтаксическом объеме имеет нижний и верхний предел, то есть минимум и максимум. Если нижний предел определяется составом простого предложения, то верхний предел допускает развертывание в придаточное обстоятельства места и времени.
Факт (его значение) есть способ описания (фиксации на уровне языка) событий действительности, имеющего своей целью выделение в них таких сторон, которые существенны с точки зрения значения текста.
Факт соотносителен на уровне языке с простой, конкретной и истинной пропозицией, то есть предложением как типом содержания единицы языка, представляющий собой мысленный образ языковой ситуации как сущности, характеризующейся временным параметром, отвлеченный от субъективного модуса и всех тех элементов и коннотаций, которые вводятся им в предложение. Признаки факта: 1) значение истинности как конститутивный компонент структуры значения; 2) отрицание; 3) структурированность (связка, субъектно-предикатные отношения); 4) ограниченность временными рамками; 5) недескриптив-носгь; 6) концептуализация действительности: факты, как и соответствующие им утверждения, не бывают глобальными; 7) счетность.
Событие – функция в жизни человека или общества. Субстратом события может быть действие, смена действий, процесс. Событие обладает троякой локализацией: оно локализовано в некоторой человеческой (единоличной или общественной) сфере, определяющей ту систему отношений, в которую оно входит, происходит в некоторое время и имеет место в некотором реальном пространстве.
То, что события локализуются относительно той или другой сферы жизни, отражается на членении происходящего на отдельные обстоятельства и на идентификации этих последних. События, в отличие от действий и поступков рассматриваются как нечто, происходящее спонтанно, как независимое или не полностью зависящее от воли человека, который может ожидать или планировать то или другое событие, но далеко не всегда в состоянии обеспечить его наступление или предотвратить нежелательное событие.
При идентификации событий учитывается их функция, которая, в свою очередь, отражена в самом наименовании события.
Признаки события:
-
• отнесенность к жизненному пространству
(в противоположность явлению);
-
• принадлежность основной линии жизни (в от личие от инцидента);
-
• динамичность и кульминативность (наличие «точки осуществления», которая в социальных акциях может фиксироваться условно), что отличает событие от ситуации;
-
• сценарность, которая при отсутствии есте ственного сценария создается ритуалом;
-
• неконтролируемость (в отличие от поступ ков);
-
• слабая структурированность (в отличие от це ленаправленных действий);
-
• целостность, отвлеченность от временной
протяженности (в отличие от процессов);
-
• отсутствие логической необходимости суще ствования (в отличие от состояний, качеств, свойств и других форм бытия);
-
• единичность, счетность (в отличие от деятель ности);
-
• функциональность (недескриптивность) обо значения конкретных событий, подводимых под родовое понятие «событие»;
-
• преимущественная включенность в интер претирующий контекст (в отличие от процессов);
-
• «вершинная» позиция при пространствен но-временном совмещении с другими событийными объектами (процессами, действиями), служащими субстратом события.
Оценка фактов и событий – способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. В логическом анализе языка оценка объекта ограничена дилеммой предмет или пропозиция. При этом различие в оценке фактов и процессов (событий) ведет к тому, что разные оценки одного и того же явления, рассматриваемого либо как факт, либо как процесс, совместимы в одном сверхфразовом единстве.
Преобразование процесса в факт (замена как на что ) меняет знак оценки на обратный. Процессы оцениваются с позиций настоящего момента (констатация), факты – с позиций будущего (следствие). Процессы связаны с желаниями и потребностями, факты – с разумом и волей. Оценки фактов и процессов в принципе взаимнонезависимы. Из оценки процесса может вытекать любая оценка соответствующего ему факта. Верно также обратное: оценка факта допускает любую оценку своей процессуальной основы.
Механизмы языковой деятельности согласуются с механизмами жизни: каждый вид оценки располагает своей синтаксической позицией (по крайней мере в ее первичной функции). Оценка процессов выражается либо наречием, либо предикативом, или категорией состояния. Оценка фактов выражается аксиологическим оператором и соотносительными с ним предикатами второго порядка. Все три вида оценки совместимы.
Оценка не нуждается ни в какой иной мотивировке, кроме отсылки к собственным ощущениям. Мотив оценки всегда связан с модусом суждения. При этом мнение может быть либо истинным, либо ложным. Сенсорная оценка всегда истинна.
Оценка фактов (возможностей) по существу своему компаративна. Обычно сопоставляется факт и возможность его неосуществления, реальное и гипотетическое положение дел, утверждение и отрицание. Области положительной и отрицательной оценки отграничиваются антонимическим комплексом, лежащим в основе сравнения. Оценки взаимно импликативны: из положительной оценки некоторого факта вытекает негативная оценка соответствующего отрицательного факта, и наоборот. Субъект оценки не обязательно совпадает с субъектомдействия или участником события. Оценка мотивируется, причем мотив имеет рациональный характер. Оценочное суждение может быть введено модусом полагания. Положение вне оценки определяется невхождением в область интересов человека. Сублиматом оценки фактов является этическая оценка. Этическая оценка пользуется понятием нормы.
Представляется, что изложенная таким образом методологическая основа судебной лингвистической экспертизы поможет разомкнуть существующий сегодня в правоприменительной практике порочный круг, когда правоприменитель, в условиях неопределенности правовых категорий, нередко перекладывает ответственность на судебных экспертов-лингвистов, фактически отдавая им на откуп решение вопроса о признании или непризнании языковой или речевой деятельности правонарушением, а эксперты, опять-таки ввиду неопределенности правовых категорий и отсутствия соответствующих экспертных методик (как следствие отсутствия единой методологии), не всегда в состоянии решать экспертные задачи по выявлению того или иного криминогенного языкового или речевого деяния.
Список литературы Методология судебной лингвистической экспертизы (старый взгляд на новую проблему)
- Андерсон Д.Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002. 492 с.
- Анохин П.К. Теория отражения и современная наука о мозге. М.: Знание, 1979. 46 с.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М.: Наука, 1988. 338 с.
- Баранов А.Н. Угроза в криминальном дискурсе. Семантика и прагматика. М.: ИРЯ им. Виноградова – МИЦ, 2021. 180 с.
- Белкин Р.С. Избранные труды. М.: Норма, 2008. 767 с.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон-XXI, 2000. 333 с.
- Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: лингвистический подход // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 10. С. 206-216.
- Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М.: МГУ, 2012. 336 с.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 140 с.
- Галяшина Е.И. Речевые следы как объекты судебных экспертиз (в свете идей Р.С. Белкина) // Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина: материалы Международной научно-практической конференции «К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста» (Москва,
- 22-23 ноября 2017 года). М.: РГ-Пресс, 2018. С. 189-194.
- Галяшина Е.И. Судебная лингвистическая экспертиза. М.: Проспект, 2023. 424 с.
- Галяшина Е.И., Богатырев К.М. Судебная политологическая экспертиза: актуальность и концептуальные основы теории/ / ResearchGate. January 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/377633546/ (accessed: 10.08.2024). DOI: 10.13140/RG.2.2.33415.16805.
- Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история / пер. с итальянского и послесловие С.Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004. 348 с.
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1984. 320 с.
- Колдин В.Я. Анализ информационных полей как метод декодирования криминалистической информации // Вестник криминалистики. 2012. Вып. 4 (44). С. 9-18.
- Комиссарова Я. В. Понятие и классификация следов в криминалистике // Вестник МГЮА. 2018. № 3. С. 131-141.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. 288 с.
- Кушнерук С.П. Документная лингвистика. М.: Флинта: Наука, 2012. 253 с.
- Лапин Е.С. Философия криминалистики. М.: Юрайт, 2023. 146 с.
- Лебедев М.В. Философия языка на фоне развития философии // Особенности философского дискурса: сборник научных трудов. М.: УРАО, 1998. С. 48-56.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 18. Материализм и эмпириокритицизм. М.: Госполитиздат, 1961. 525 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. 682 с.
- Локар Э. Руководство по криминалистике. М.: НКЮ СССР, 1941. 544 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. М.: Госполитиздат, 1954. Т. 4. 530 с.
- Микешина Л.А. Философия науки. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 439 с.
- Никишин В.Д. Объекты судебной лингвистической экспертизы: новые вызовы криминогенной интернет-коммуникации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2020. № 6 (70). С. 79-88.
- Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: ИПК РФЦСЭ, 2005. 261 с.
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400450248/ (дата обращения: 02.08.2024).
- Розенталь М.М. Принципы диалектической логики. М.: Соцэкгиз, 1960. 478 с.
- Романов А.А. О статусе угрозы в экспертной деятельности лингвиста // Русский язык и литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном пространстве: монография. Саратов: СГЮА, 2021. С. 143-152.
- Россинская Е.Р. Судебная экспертология в свете новой номенклатуры научных специальностей // Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы: сборник докладов научно-практической конференции с международным участием. Нижний Новгород: ННГУ, 2022. С. 225-231.
- Сафаргалиева О.Н. О понятии и содержании следов в криминалистике // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2010. № 2 (23). С. 161-166.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 695 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024). Ст. 74 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 01.08.2024).
- Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике: автореф. дис.... канд. юр. наук. Воронеж: Воронежский ГУ, 2005. 22 с.
- Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. 184 с.
- Судебная этиковедческая экспертиза – новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России / А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк, Ш.Н. Хазиев, О.В. Галаева, В.В. Гулевская // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Т. 18, № 3. С. 6-15.
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями). Гл. I. Общие положения (ст. 1-5). Ст. 1. Основные понятия [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/103526/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9 858f/ (дата обращения: 01.08.2024).
- Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Гл. I. Общие положения (ст. 1-13). Ст. 10. Объекты исследований [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12123142/3d3a9e2eb4f30c73ea667 1464e2a54b5/ (дата обращения: 03.08.2024).
- Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1963. Сохранения законы. С. 418-419.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. 488 с.
- Янковая В.Ф. Документная лингвистика. М.: Академия, 2011. 281 с.