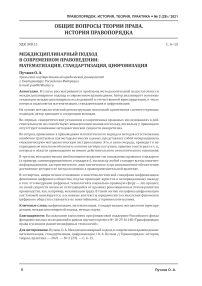Междисциплинарный подход в современном правоведении: математизация, стандартизация, цифровизация
Автор: Пучков О. А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Общие вопросы теории права. История правопорядка
Статья в выпуске: 2 (29), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы методологической недостаточности междисциплинарного подхода в современном правоведении. Автор анализирует основные тенденции междисциплинарных исследований в отечественной юриспруденции, в числе которых выделяются математизация, стандартизация и цифровизация. На основе методологической реконструкции оснований применения соответствующих подходов, автор приходит к следующим выводам. Во-первых, синкретические установки в современных правовых исследованиях в действительности не способствуют конвергенции знания постольку, поскольку у правоведов отсутствует понимание методологической сущности синкретизма. Во-вторых, применение в правоведении математического подхода и методов естествознания, ошибочно трактуемых как методологически единых, представляет собой неоправданную, «механическую» методологическую экстраполяцию. Это, в свою очередь, приводит к неоправданным попыткам обосновать понятия алгебры поступков, правового интеграла и т. п., которые в области правоведения не имеют действительного онтологического основания. В-третьих, методологически необоснованно введение так называемых правовых стандартов (к примеру, «антикоррупционного стандарта»), поскольку любой стандарт всегда означает информационное, алгоритмическое, лингвистическое и организационное обеспечение, достижение которого не всегда возможно в правоприменительной практике. В-четвертых, некритичное отношение к эпистемологической специфике цифровизации, феноменов цифрового общества, подчас приводит юристов к неоправданному выводу о том, что внедрение цифровых технологий в социально-правовую сферу - это процесс, по своей сущности ничем не отличающийся от прежних революционных этапов развития производства, как, например, механизации труда. В такой логике специфика цифровизации как таковой нивелируется, а основные контексты юридического осмысления феноменов цифрового общества становятся не понятийными, а терминологическими.
Цифровизация, математизация, стандартизация, методология юриспруденции, междисциплинарный подход, методы науки
Короткий адрес: https://sciup.org/14119530
IDR: 14119530 | УДК: 340.11
Текст научной статьи Междисциплинарный подход в современном правоведении: математизация, стандартизация, цифровизация
Как известно, междисциплинарный подход давно утвердился в современных науках — как естественных, так и гуманитарных — в качестве главного вектора современного научного познания. Показав свою эффективность и инновационность, междисциплинарный подход, как и любой подход в методологии науки, нуждается в переосмыслении в связи с появившимися в контексте его реализации методологическими проблемами.
Материал и методы исследования
Исследовательский материал представлен современными научно-теоретическими разработками по правоведению, в которых актуализирован междисциплинарный методологический подход.
Методы исследования организованы в соответствии с традиционной для философии науки типологией уровней научного познания.
На всеобщем (философском) уровне методология исследования представлена диалектическим методом, философскими концепциями синкретичности и полноты, общими принципами научного познания.
Уровень общенаучных исследовательских средств представлен методами анализа, аналогии и экстраполяции, а также системным, генетическим и функциональным подходами, общенаучными концепциями (в том числе — кибернетической).
Специально-научный уровень исследования образован собственными методами юридической науки, в числе которых — юридическая догматика и юридическое конструирование.
Результаты исследования
Как любой научный подход (ситуативный, экономический, поведенческий, структурный и пр.), междисциплинарный подход опирается на объект исследования и выработанные методы его изучения. Вместе с тем, в контексте применения междисциплинарного подхода следует констатировать отсутствие специфического объекта. К примеру, не может быть психологического права, математического, культурологического и др. (хотя в юридической литературе предпринимаются попытки доказать существование этих феноменов). То, что междисциплинарный подход порой достаточно эффективно использует элементы методов других наук, не свидетельствует об их синкретизме, т. е. соединении. Более того, синкретизм — это отнюдь не высшее слияние чего-либо, а, напротив, его неразвитость, эклектичность [16, с. 609].
Синкретизм характеризует такое состояние изучаемого объекта, когда невозможно отделить один объект от другого (когда, к примеру, музыка, танец, поэзия, не будучи осмыслены как отдельные объекты, воспринимались в качестве искусства как такового); когда происходит слияние различных (разнородных) объектов в силу невозможности их разделения на определенном этапе развития человеческой цивилизации (миф, культ, религия, наука).
Таким образом, часто используемый в междисциплинарном подходе термин «синкретизм» не является адекватным сущности этого подхода и не наполняет междисциплинарный подход в науках каким-либо методологически эффективным содержанием. На наш взгляд, гораздо большее значение для междисциплинарных исследований имеют не столько попытки «соединить несоединимое», сколько переосмысление категориального аппарата конкретной науки с учетом концептуальных контекстов развития иных отраслей научного знания.
Однако и этот путь тернист, т. к. за этим вектором развития междисциплинарного подхода кроется серьезная проблема категориально-терминологического анализа.
Обсуждение результатов исследования
Достаточно длительный срок использования междисциплинарного подхода в практике научных (в том числе правоведческих)
исследований выявил группу проблем, ими порожденных.
Обратимся к одной из них — к математизации знания, доводимой подчас до абсурда. Повсеместный пиетет перед математикой сделал свое пагубное дело в сфере гуманитарных дисциплин. Математика, которой приписывается магическая роль в контексте переосмысления знания как такового, между тем, даже не является наукой. У неё нет собственного, отдифференцированного от других наук, предмета исследования: математика лишь формализует окружающий мир, но при этом не следует забывать, что формализация — это функция, а не содержание, не объект. Функция не может заменить собой предмет исследования, и эта гипертрофированная в практике современных исследований функция порой приводит к абсурдности научных выводов. В частности, Е. Б. Хохлов осуществил полноценный анализ математизации юридического знания в контексте правового статуса субъекта, предложенного в свое время А. А. Кононовым и другими авторами [8, с. 16–21]. Автор приходит к выводу, что рассуждения об интегралах в праве просто бессмысленны.
Остановимся на этом более подробно. А. А. Кононов полагает, что теория алгоритмов в праве вполне приемлема. По мнению последнего, существуют три базовых алгоритма: линейный, ветвящийся и циклический. Как они применимы в праве? Все очень просто, хотя речь идет об интегралах. «Линейный алгоритм выполняет однообразные действия с входным сигналом» [8, с. 19] и ему соответствует обязывающая норма права; «ветвящийся алгоритм реализует альтернативные действия с входным сигналом в зависимости от выполнения соответствующих этим действиям условий» [8, с. 19]. Это, по мнению А. А. Кононова, управомочивающая норма права. Циклический алгоритм «выполняет однообразные действия, циклически и дискретно, изменяя входной сигнал в задаваемых пределах и с задаваемым шагом дискретности». Именно ему и соответствует охранительная норма права. В связи с приведенным мнением возникает ряд вопросов:
Как указывает О. А. Гаврилов, в сфере права «математический аппарат… — это совокупность средств, которыми количественно описываются категории права» [5, с. 73]. В современном правоведении математическим средствам придается «магическая» роль, однако нужно помнить, что математика не только не имеет своего предмета, отдельного от других наук, но и не содержит критерия истинности — в этом качестве выступает лишь критерий внутренней непротиворечивости, что по сути характеризует грамматику языка и его известную формализацию. При этом не следует забывать, что формализация — это функция, а не содержание. Функция не может заменить собой предмет исследования и игнорирование этого требования способно привести к ошибочным результатам в исследованиях. Обратимся к работе Е. Б. Хохлова «Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки» [17, с. 4–14]. В этом исследовании автор осуществил полноценный анализ математизации юридического знания в сфере правового статуса субъекта, предложенный А. А. Кононовым [8, с. 16–21], который полагает, в частности, что теория алгоритмов в праве вполне приемлема. По мнению последнего, существуют три базовых алгоритма: линейный, ветвящийся и циклический. Как они применимы в праве? Все очень просто, хотя речь идет об интегралах. «Линейный алгоритм выполняет однообразные действия с входным сигналом» [8, с. 19] и ему соответствует обязывающая норма права; «ветвящийся алгоритм реализует альтернативные действия с входным сигналом в зависимости от выполнения соответствующих этим действиям условий» [8, с. 19]. Это, по мнению А. А. Кононова, управомочивающая норма права. Циклический алгоритм «выполняет однообразные действия, циклически и дискретно, изменяя входной сигнал в задаваемых пределах и с задаваемым шагом дискретности». Именно ему и соответствует охранительная норма права. В связи с приведенным мнением возникает ряд вопросов:
Во-первых, каким образом «ветвящийся алгоритм», да и любой другой « реализует альтернативные действия с входным сигналом»? Алгоритм — это конечный набор правил. Но каким образом правило что-то реализует?
Во-вторых, алгоритм чисто механически способен решать любую конкретную задачу из определенного класса однотипных задач. Вряд ли задачи, стоящие перед математикой и юриспруденцией, настолько однотипны, что есть смысл рассуждать о состоянии их однородности.
В-третьих, как известно, алгоритм выполняется по строгим правилам: исходные данные могут изменяться только в определенных пределах; решение задачи определяется однозначно, и результативность этого решения тоже однозначна (и, более того, заранее задана).
Исходя из этого, задумаемся: нужно ли все это так настойчиво применять в современной юриспруденции? Может прозвучать ответ: алгоритмизация есть основа, создающая систему так называемого электронного правосудия, то есть применения искусственных интеллектуальных систем при разрешении конкретных дел в государственных судах. Но, как показывает практика, система электронного правосудия далеко не всегда оценивается положительно (в тех странах, где она применяется), и в качестве высшей инстанции стороны апеллируют к традиционным практикам судопроизводства [7, с. 8].
Что же касается математизации правового статуса личности, то здесь конечные выводы авторов сводятся к тому, что «конкретный правовой статус субъекта — функция, аргументом которого являются субъективные права, обязанности и интересы». Авторам представляется очевидным, что в полном объеме правовой статус может быть описан лишь всем множеством (суммой) конкретных правовых статусов субъекта — бесконечно малых изменений конкретного статуса (приращений функции) при бесконечно малом изменении субъективных прав, обязанностей или правовых интересов (приращений аргументов). Сумма же «бесконечно малых приращений функции при бесконечно малом приращении аргумента есть не что иное, как интеграл функции» [17, с. 11]. Следует согласиться с мнением Е. Б. Хохлова, который полагает, что от такой математизации знания не происходит его приращение, а скорее наоборот, идет обратный процесс. Ничего нового в понимании правовой категории «правовой статус субъекта» при отождествлении её с понятием «интеграл» не происходит. Напротив, наблюдается регресс в понимании этой категории.
Обратимся еще к одному примеру малоудачной попытки проведения междисциплинарного исследования.
В. О. Лобовиков ввел в правоведение понятие «алгебра поступков как математическая модель». Автор пояснил, что поступки делятся на простые и сложные и что не всякое действие есть поступок, что в рамках формальной юриспруденции элементы множества Х (хорошо), Н (плохо) называются «ценностными юридическими (или правовыми) значениями поступков» [9, с. 62–63]. В. О. Лобови-ков полагает, что сложные поступки состоят из простых (?! — авт.) и далее делает вывод: «На множестве поступков для произвольно взятых поступков а и в могут быть (а могут и не быть) определены бинарные правовые операции: Кав (объединение поступков в поведение); Оав (исключающий правовой выбор наиболее хорошего или наиболее плохого поступка среди поступков а и в); Аав (неисключающий правовой выбор наиболее хорошего или наиболее плохого поступка среди поступков а и в); ответное действие, т. е. реакция, Сав (совершение в в ответ на совершение а); Тав (уравнивание ценности поступков а и в); а также унарная правовая операция На (воздержание от а, т. е. свободное несовершение поступка а), результаты которых также могут принадлежать (а могут и не принадлежать) множеству поступков» [9, с. 62–63].
Абстрагируясь от этой алгебраической казуистики, зададимся вопросом: а применима ли здесь алгебра вообще? Ведь для алгебраических вычислений важно понятие класса (совокупности предметов, явлений, удовлетворяющих каким-либо условиям). Каково же это условие в вычислениях В. О. Лобовикова? Автор не поясняет. Что касается ценности подобной математизации юридического знания, то сразу возникает вопрос о том, каким образом сложные поступки состоят их простых, как это утверждает автор? Его подход, в этом смысле, «разбивается» о философское понимание простого и сложного: сложное присутствует в простом, а простое явление, в свою очередь, есть ни что иное множественность; исходя из этого, простой поступок обретает такие свойства, которые не охватываются в принципе алгебраическими формами. Даже в естествознании понятия о простом и сложном неоднозначны.
В частности, квантовая физика таит загадку, не разрешенную до сих пор. В. Гейзенберг описывал ее следующим образом: «Когда сталкиваются две элементарные частицы с чрезвычайно высокой энергией, они, как правило, действительно распадаются на кусочки, иногда даже на много кусочков, однако эти кусочки оказываются не меньше распавшихся на них частиц » [13, с. 279]. И здесь возникает проблема простого и сложного. Что тогда говорить об этой проблеме в социальной сфере и, тем более, в правоведении? Итак, «вовсе не отвергая права на существование абстрактного сверхчувственного разума в сфере юридической науки, призовем юридическую общественность к тому, чтобы создавая правовые абстракции, мы не превращали это в самоцель, ибо в противном случае возникают юридические химеры, стремительно тающие при первом столкновении с реальностью» [9, с. 14].
Современная математизация правоведения, таким образом, должна быть обусловлена не «модными» тенденциями междисциплинарных исследований, а прежде всего их методологической достоверностью. Кроме того, что не ясно, каков же предмет математики (если последнюю все-таки считать наукой), до сих пор нет ответа и на вопрос о том, «какова природа математики и каким образом возможно математическое знание?» [10, с. 58].
Мы не можем ответить на вопрос: если в математике все формально выводимо, то сводится ли она к системе тавтологий, и что это дает научному знанию? Мы согласны с мнением Д. В. Мазурова о том, что «одна из общих точек зрения — истины математически необходимы и независимы от опыта в силу абсолютной идеальности ее объектов. Это вполне резонно, но сказано слишком категорично. Это одна из крайностей, которыми изобилуют работы по основаниям математики. Другая крайность, тоже имеющая право на существование: можно считать, что все в математике происходит из опыта [10, с. 57].
При этом автор полагает, что, безусловно, эмпирическое обоснование математики очень важно, но при этом надо понимать, что методы математики и естествознания, хотя и сходны, но не являются идентичными. Что тогда говорить о методах гуманитарных наук в плане их приближения к методам математики? С 1970-х гг. человечество столкнулось с кризисом переусложнённости доказательств, и он продолжает существовать. Не вносим ли мы свою лепту в этот кризис, занимаясь насильственное математизацией любых наук?
Обратимся ещё к одной проблеме современного правоведения — стандартизации юридической науки. Это тоже «модное» течение, о методологической сущности которого ничего не известно. Так, А. И. Нестеров предпринял попытку обосновать жизнеспособность новой категории российской паровой системы — антикоррупционный стандарт. Автор полагает, что это «документ (часть документа), устанавливающий (содержащий) систему гарантий, ограничений или запретов, обеспечивающих предупреждение коррупции или уменьшение её воздействия на функционирование определённой сферы жизни общества» [14, с. 23]. Сразу же возникает вопрос: каким образом научная категория вдруг стала отождествляться с документом или его частью? Далее автор рассуждает о возможности существования множественности антикоррупционных стандартов (по сферам правового регулирования, по поведению отдельных групп граждан, по субъектам антикоррупционной политики). Так, А. И. Нестеров полагает, что «российская практика разработки и утверждения антикоррупционных стандартов в отдельных сферах правового регулирования показала, что они могут устанавливаться любым субъектом антикоррупционной политики (в том числе и органом местного самоуправления, территориальным органом федерального органа исполнительной власти, президиумом областного суда), что с учётом различного содержания устанавливаемых положений не может приводить к стандартизации, установлению единой системы гарантий, ограничений, запретов для той или иной сферы общества» [14, с. 25]. Не возражая против данного утверждения, обратим внимание на то, что содержание новой для российского правоведения категории свелось автором к обращению к деятельности высших органов государственной власти РФ как единственному и эффективному разработчику таких антикоррупционных стандартов.
Таким образом, единственное, что положено автором в обоснование категории «антикоррупционных стандарт» — это необходимость их множественности. Полагаем, что для определения научной категории этого явно недостаточно. Безусловно, стандарт — это образец, эталон, это то, что принимается как исходное, однозначное для сопоставления с ними других подобных объектов. Также безусловно и то, что любой стандарт — это унификация. И здесь все не так просто. Более ста лет назад была установлена неприемлемость применения естественнонаучных подходов к социальной действительности (материи). Г. Еллинек об этом рассуждает наиболее аргументированным образом: «В однородных явлениях природы преобладающее значение для науки имеют элементы тождественных, между тем как в социальных явлениях последние настолько отодвигаются элементами индивидуализирующими, что социальное событие никогда не повторяется в тождественной, а только в аналоговой форме. Естествознание может поэтому игнорировать индивидуализирующие элементы: оно может с успехом уделять внимание только тождественному в явлениях. Однородные социальные события, напротив, лишь в незначительной степени тождественны, преимущественно же только аналогичны. Общие законы не могут здесь поэтому объяснить отдельное явление: последнее никогда не должно быть рассматриваемо, как простое осуществление чего-то общего, проявляющегося в нем в чистом виде; в противном случае мы получим о нем совершенно недостаточное поверхностное представление» [6, с. 18–19].
Есть еще один немаловажный методологический аспект, который надо учитывать при разработке любых стандартов, применяемых при разработке комплексных проектов: это лингвистическое, информационное, алгоритмическое, организационное обеспечение стандарта [3, с. 167]. Здесь явно не обойтись только работой федерального законодателя. И то, что будет вполне жизнеспособно в качестве стандартизации комплексных технологических проектов, навряд ли окажется таковым в сфере юриспруденции.
В итоге А. И. Нестеров сам себе противоречит, переходя к выводу, что несовпадение содержания антикоррупционных стандартов возможно, но преодолеет его опять-таки можно установлением на уровне национального законодательства единых для любой категории лиц антикоррупционных требований [14, с. 22–27].
Остановимся более подробно на специфике социальных проблем в современном правоведении, а точнее — на их методологической недостаточности. Прежде всего следует признать, что до сих пор не выработано никакого методологического аппарата, позволяющего установить, что является социальной проблемой, подлежащей решению паровыми средствами. Мы солидарны в этой связи с позицией В. Н. Мининой, которая полагает, что социальная проблема имеет гораздо более глубинные корни, чем воздействие некоторых объективных условий (к примеру, миграционных процессов) или субъективных факторов (отклоняющегося индивидуального поведения). Автор задается вопросом, чем же следует руководствоваться при выработке управленческих решений, и не находит ответа на этот вопрос, потому что «при выработке управленческих решений в рамках конкретных программ, например, борьбы с преступностью, не обосновывается, почему последняя является социальной проблемой (именно социальной, а не просто управленческой), что делает её таковой, что вызывает необходимость общественного, и в том числе административного вмешательства в ход событий. Может быть, наличие особых типов криминальных объединений или рост некоторых видов преступности. Может быть, преступность потому является социальной проблемой, что правоохранительные органы борются с ней неэффективно? Или дело в коррупции? А может существует особый социальный класс, достаточно мощный, образующий криминальную социальную систему?» [12, с. 75] В. Н. Минина приходит в этой связи к выводу о методологической недостаточности понятия «социальная проблема», связанной прежде всего с тем, что в социологии в данном аспекте делается акцент на гносеологическом значении слова, а не как определённые правила фиксации разрыва между желаемым и действительным. Автор справедливо утверждает, что «социологи редко задаются вопросом, что означает социальная проблема как предмет социального изучения», что по большей мере «осуществляется традиционный научный анализ вполне определенного социального явления, без акцента на том, действительно ли оно становится проблемой в обществе, и если да, то почему» [12, с. 78].
Таким образом, все известные подходы в социологии социальных проблем (конструктивистский, функциональный, нормативный, конфликтно-ценностный) и др. до сих пор не дали однозначного решения по поводу генезиса, эволюции и решения социальных проблем. Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения, что правоведение нацелено на разрешение именно социальных проблем правовыми средствами. Социальные проблемы возникают из социальных противоречий, которые не являются объектами изучения современного правоведения. Социальная проблема охватывается разом лишь как наличный результат этого противоречия. И в связи с этим можно говорить о далеко не всегда эффективном её решении. Безусловно, социальные отношения более динамичны, чем правовые, но если последние будут всегда аутсайдерами, то и результат будет таким же. Обратимся в этой связи к примеру с гендерным равенством в России. Известно, что XXI век ООН назвала веком женщин и демократии. Очевиден факт трактовки демократии как включенности туда женщин.
Для обеспечения этого права во всём мире устанавливается квота на участие женщин в политической, экономической жизни общества. Они названы «мерами положительной дискриминации» [15, с. 113]. Вместе с тем никакими квотами на представительниц прекрасного пола в парламентах стран мира проблемы не решить. В основе этой социальной проблемы лежит глубинное противоречие в мироощущении, мировоззрении, физиологии мужчины и женщины. И нарушение определенного, так скажем, баланса этого противоречия может привести совсем не к тем результатам, на которые нацелено современное проведение. Мужчины перестанут ценить истинно женское, женственность, что мы сейчас повсеместно наблюдаем, а женщины, в свою очередь, утрачивают глубинный, существующий на уровне подсознания некий эталон защиты, защищённости, продуцируемый мужчинами. Уже сейчас можно сформулировать возникшую в результате игнорирования этого глубинного противоречия проблему. Так, «противники гендерного подхода в праве уверяют, что абстрактность понятия «человек», «гражданин» как раз и служит гарантией равенства. Однако практика показывает, что андроцентризм законодательства, гендерные стереотипы, отсутствие гендерной оценки норм не исключают правовой дискриминации ни женщин, ни мужчин. И если женская дискриминация носит, как правило, скрытый характер и проявляется в момент реализации нормы права в виде отсутствия необходимых условий для её реализации женщиной, то «мужская дискриминация закрепляется законодательно путём непредоставления права, исключения мужчины как участника тех или иных правоотношений» [15, с. 115]. В российском правоведении в связи с этим уже достаточно давно поднимался вопрос о введении понятия гендерной аналогии закона и гендерной аналогии права. К примеру, речь идет о родительских обязанность, которые демонстрируют вторичность, необязательность мужчин, оказавшихся в аналогичной с женской ситуации. То же самое касается и социальной проблемы равноправия при осуществлении репродуктивных прав. У женщины их в разы меньше либо они отсутствуют совсем. Итак, без глубинного анализа противоречия, лежащего в основе социальной проблемы, её не только не решить, не неадекватными действиями законодателя можно и усугубить.
Не менее значимой и актуальной, с позиции методологии междисциплинарного подхода в современном правоведении, становится проблема цифровизации государства и права, социально-правовых явлений и процессов и, как следствие, привлечение юридической наукой концептуальных схем из иных областей знания, специально направленных на осмысление феномена цифрового общества. Как правило, само понятие цифровизации используется в современных исследованиях как генерализующее, в том смысле, что его содержание включает в себя совокупность теорий о влиянии так называемых цифровых технологий на общество, культуру, государственное управление и правовую сферу [1, с. 173]. В юридических разработках цифровизация, в основном, понимается в более узком смысле — как процесс внедрения информационных технологий (в том числе искусственных интеллектуальных систем) в область социально-правовых практик (гражданского оборота, правосудия, государственного управления в целом). Отсюда, говоря о «цифровизации» государства и права, необходимо уточнение исходных концептуальных контекстов, в которых употребляется соответствующее понятие как матрица междисциплинарного подхода. Некритичное отношение к соответствующей эпистемологической норме подчас приводит юристов к неоправданному выводу о том, что внедрение цифровых технологий в социально-правовую сферу — это процесс, по своей сущности ничем не отличающийся от прежних революционных этапов развития производства, как, например, механизации труда. В такой логике специфика цифровизации как таковой нивелируется, а основные контексты юридического осмысления феноменов цифрового общества становятся не понятийными, а терминологическими; примером такого методологически ошибочного подхода может служить концептуализация криптовалют в качестве валютных ценностей, смарт-контрак-тов — в качестве договоров (контрактов) и т. п. Такая установка во многом редуцирует действительную ситуацию, подменяет сущность познаваемого явления его языковой формой; отсюда следует констатировать, что цифровизация как вектор междисциплинарных исследований, призванная первоначально к обогащению знания, в сфере юриспруденции приводит к его редукции, основным фактором которой становится принципиальная смена познаваемого объекта в правоведении, каковым начинает выступать уже не столько совокупность социально-правовых феноменов, сколько текстуальные формы их выражения в языке. Такая тенденция порождает фундаментальные проблемы не только в контексте междисциплинарного подхода в правоведении, но и в области самого права.
В первую очередь здесь следует обратить внимание на дисбаланс между колоссальным уровнем свободы пользователя Всемирной сети и негативные последствия этой свободы. В условиях, когда виртуальное взаимодействие фактически исключено из сферы правового регулирования, когда большинство коммуникативных подсистем (в том числе электронных мессенджеров) позволяют сохранять тотальную анонимность, закономерным является рост противоправной деятельности — анонимной кибердиффамации, незаконного получения персональных данных других пользователей, доступа к их активам и т. п.
По сути, в заданном контексте оправданно утверждать об отсутствии в виртуальном пространстве личности в классическом понимании. Пользователь утрачивает личностные характеристики, наделяет себя не присущими ему в реальной жизни атрибутами и притом — относится к ним как к существующим реально. Вместе с тем, следует учитывать, что реальным для права является в первую очередь мир материальный, на регулирование процессов в котором и нацелены правовые средства; отсюда, экстраполяция выработанных в целях регулирования материального мира юридических конструкций на область виртуального пространства методологически неоправданна. Вследствие этого, нерешенным остается вопрос, следует ли пользователя сети Интернет приравнивать (по его юридическому статусу) к пользователю в традиционном позитивно-правовом понимании. Исследователи до сих пор не получили ответа: пользователь чего присутствует в Сети? Это — пользователь вещи, услуги? Разумеется, и не то, и не другое. Это — пользователь информационного пространства, юридический статус которого никто не стремится определить. Отсюда, остается методологически нерешённым вопрос о полноте знания о присутствии пользователя в виртуальном пространстве. Эта проблема — не только сугубо прикладная, но и, прежде всего, философско-научная. Полнота в логике — это свойство аксиоматической теории. Она характеризует достаточность ее дедуктивных средств для определенных целей. «Аксиоматическая система называется дедуктивно полной по отношению к данной интерпретации, если все ее формулы, истинные для данной интерпретации, доказуемы в ней» (курсив наш) [16, с. 512]. Это — содержательная, аксиоматическая характеристика полноты в том или ином научном исследовании. Оно не может быть полным в чисто формальном значении, когда налицо невозможность присоединения к системе устоявшихся научных понятий никакой недоказуемой формулы в качестве аксиомы, что и происходит при цифровизации и порождает многочисленные противоречия.
Пользователь «посещает» сеть, сохраняя при этом максимальную анонимность. Социум уже не важен. Важны анонимность и практически безнаказанность присутствующих. Коммуникативное, таким образом, все менее и менее опирается на общественное. «Когда вещи, знак, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения и предназначения, они вступают на путь бесконечного самовоспро-изводства. Все сущее продолжает функционировать, тогда как смысл существования давно исчез» [2, с. 11–12], — констатирует в связи с этим Ж. Бодрийяр. На взгляд исследователя, это происходит потому, что «информация, вместо того, чтобы побуждать к коммуникации, занимается ее разыгрыванием. То же и в отношении смысла: информация не воспроизводит смысл, а разыгрывает его» [11, с. 109].
Эти и другие проблемы цифровизации права и правоведения должны быть осмыслены научным сообществом, занимающимся вопросами цифровизации социальной сферы (и правовой в том числе). Цифровизация в праве, безусловно, должна ответить на главный вопрос: тождествен ли виртуальный мир реальному? Регулируется ли он так же, как реальный? Какой из них первичен для целей современной социокультурной действительности и т. д. Иначе законодатель будет сталкиваться с проблемой непонимания предмета правового регулирования, а ученые-юристы вместо своего исходного изучаемого объекта — государственно-правовой действительности — будут концентрировать свое внимание на логико-языковых тождествах традиционных юридических конструкций, с одной стороны, и новых «цифровых» феноменов, с другой.
Выводы
На основе методологической реконструкции оснований применения междисциплинарного подхода в практике современных научно-юридических исследований автор приходит к следующим выводам.
Во-первых, синкретические установки в современных правовых исследованиях в действительности не способствуют конвергенции знания постольку, поскольку у правоведов отсутствует понимание методологической сущности синкретизма.
Во-вторых, применение в правоведении математического подхода и методов естествознания, ошибочно трактуемых как методологически единых, представляет собой неоправданную, «механическую» методологическую экстраполяцию. Это, в свою очередь, приводит к неоправданным попыткам обосновать понятия алгебры поступков, правового интеграла и т. п., которые в области правоведения не имеют действительного онтологического основания.
В-третьих, методологически необоснованно введение так называемых правовых стандартов (к примеру, «антикоррупционного стандарта»), поскольку любой стандарт всегда означает информационное, алгоритмическое, лингвистическое и организационное обеспечение, достижение которого не всегда возможно в правоприменительной практике.
В-четвертых, некритичное отношение к эпистемологической специфике цифровизации, феноменов цифрового общества, подчас приводит юристов к неоправданному выводу о том, что внедрение цифровых технологий в социально-правовую сферу — это процесс, по своей сущности ничем не отличающийся от прежних революционных этапов развития производства, как, например, механизации труда. В такой логике специфика цифровизации как таковой нивелируется, а основные контексты юридического осмысления феноменов цифрового общества становятся не понятийными, а терминологическими.
Заключение
Даже небольшая ретроспектива междисциплинарного подхода в современном отечественном правоведении выявила серьёзную его методологическую недостаточность, к проблематике которой необходимо отнестись самым серьёзным образом. «Перенос» предметов исследования, методов, принципов, критериев оценки эффективности одних научных дисциплин на другие — это не междисциплинарное исследование, а экстраполяция без каких-либо на то методологических оснований.
Список литературы Междисциплинарный подход в современном правоведении: математизация, стандартизация, цифровизация
- Lankshear C., Knobel M. Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices, New York: Peter Lang Publ., 2008, 323 p.
- Бодрийяр,Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр. — Москва : Добросвет, 2000. — 258 с.
- Вересников, Ю. К. Организация библиотек стандартных компонентов при внедрении CALS-тех-нологий / Ю. К. Вересников, Т. Е. Митрофанова // Менеджмент и бизнес-администрирование. — 2015. — № 3. —С. 167-170.
- Гаврилов, О. А. Изучение права методами математической логики / О. А. Гаврилов // Вопросы кибернетики и права. — Москва : Наука, 1967. — С. 33-60.
- Гаврилов,О.А. Курс правовой информатики / О.А. Гаврилов. — Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. — 432 с.
- Еллинек, Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. — Санкт-Петербург : Общественная польза, 1903. —532 с.
- Качалова, О. В. Искусственный интеллект в правосудии — светлое будущее с оговорками / О. В. Качалова // Уголовный процесс. — 2020. — № 10. — С. 8.
- Кононов,А. А. Общенаучная концепция системы права / А.А. Кононов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2003. — № 3. — С. 12-21.
- Лобовиков, В. О. Математическое правоведение. Часть 1: Естественное право / В. О. Лобовиков. — Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та, 1998. — 240 с.
- Мазуров, В. Д. Философия математики / Д. В. Мазуров // Вестник Уральского института экономики, управления и права. — 2016. — № 1 (34). — С. 56-67.
- Мальковская, И. А. Знак коммуникации. Дискурсивные матрицы I И. А. Мальковская. — Изд. 2-е, испр. — Москва : КомКнига, 2005. — 240 с.
- Минина, В. Н. Социология социальных проблем. Аналитический обзоросновных концепций I В. Н. Минина II Журнал социологии и социальнойантропологии. — 199В. — Т. 1, № 3. — С. 74-90.
- Мир философии : Книга для чтения : в 2-х ч. Часть 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. — Москва : Политиздат, 1991. — 672 с.
- Нестеров, А. И. Антикоррупционный стандарт — новая категория российской правовой системы I А. И. Нестеров II Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2016. — № 2 (52). —С. 22-27.
- Магомедова, E. А. Правовые проблемы гендерного равенства в России: философия, социология, юридическая техника (обзор материалов «круглого стола») I E. А. Магомедова, Н. К. Никитина, E. В. Скурко II Государство и право. — 2007. — № 9. — С. 113-119.
- Философский энциклопедический словарь. — Москва : Советская энциклопедия, 19В3. — В40 с.
- Хохлов, E. Б. Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки I E. Б.Хохлов II Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2004. — № 1. — С. 4-14.