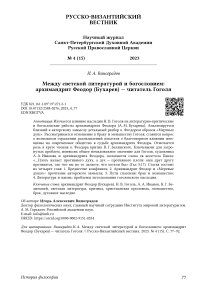Между светской литературой и богословием: архимандрит Феодор (Бухарев) - читатель Гоголя
Автор: Виноградов Игорь Алексеевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (15), 2023 года.
Бесплатный доступ
Изучается влияние наследия Н. В. Гоголя на литературно-критические и богословские работы архимандрита Феодора (А. М. Бухарева). Анализируется близкий к авторскому замыслу детальный разбор о. Феодором образов «Мертвых душ». Рассматривается отношение к браку и монашеству Гоголя; ставится вопрос о возможном отражении размышлений писателя о благотворном влиянии женщины на современное общество в судьбе архимандрита Феодора. Отмечается роль в круге чтения о. Феодора критик В. Г. Белинского. Ключевыми для затронутых проблем, имевших общее немаловажное значение для Гоголя, художника А. А. Иванова и архимандрита Феодора, полагаются слова св. апостола Павла: «…Плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал 5:17). Статья состоит из четырех глав: 1. Предвестие конфликта; 2. Архимандрит Феодор и «Мертвые души»: прочтение авторского замысла; 3. Пути спасения: брак и монашество; 4. Литература и жизнь: проблемы истолкования гоголевского наследия.
Архимандрит феодор (бухарев), н. в. гоголь, а. а. иванов, в. г. белинский, светская литература, критика, христианская проповедь, монашество, брак, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/140301581
IDR: 140301581 | УДК: 821.161.1.09"19":271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_4_77
Текст научной статьи Между светской литературой и богословием: архимандрит Феодор (Бухарев) - читатель Гоголя
1. Предвестие конфликта
Трагическая судьба о. Феодора (А. М. Бухарева, 1822–1871), бывшего архимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, профессора Московской и Казанской Духовных академий, окончившего жизнь мирянином, к настоящему времени с внешней стороны хорошо изучена и обстоятельно представлена, с привлечением многочисленных источников, в авторитетном издании1. В 1862 г. архимандрит Феодор, будучи огорчен запрещением Святейшим Синодом его «Исследования Апокалипсиса» и полагая, что на светском поприще может принести б о льшую пользу, подал прошение о сложении с себя духовного и монашеского сана, которое было удовлетворено.
Особое место, которое занимает А. М. Бухарев в истории Русской Церкви, заключает в себе ряд острых проблем, вызывающих широкое обсуждение2. Несмотря на то, что факты биографии о. Феодора тщательно собраны и изучены, со стороны внутренней, с точки зрения сокровенных причин, послуживших его выходу из священного звания, судьба и наследие ученого монаха нуждаются в дополнительном изучении. В анализе этих процессов важнейшую роль, безусловно, играют сами литературно-богословские труды о. Феодора. Среди них, на наш взгляд, особое, едва ли не первостепенное место занимают его известные «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году» (книга была опубликована в 1860 г.).
«Три письма…» представляют собой исследование творчества Гоголя, написанное в эпистолярном жанре. Письма создавались еще тогда, когда А. М. Бухарев был монахом. Согласно принципиальной позиции о. Феодора, христианский взгляд должен проникать все сферы жизни общества, включая светскую литературу. Поэтому гоголевское наследие — сочинения писателя-христианина — были для Бухарева неоценимым подспорьем для духовной проповеди. По свидетельству воспитанников Московской Духовной академии, на сочинения Гоголя архимандрит Феодор ссылался даже в своих богословских лекциях. Как вспоминал бывший студент академии протоиерей Сергей Сергеевич Модестов (1832–1914), «о Гоголе даже на классе Священного Писания читал лекции известный архимандрит Феодор Бухарев, причислявший Гоголя чуть не к пророкам-обличителям, вроде Иеремии, плакавшем о пороках людских»3. Другой ученик о. Феодора В. В. Лаврский (впоследствии протоиерей) записал в 1856 г. в своем студенческом дневнике: «А замечательное сходство между идеями о. Феодора и идеями Гоголя; ныне мы читали его переписку с друзьями: при этом старшие студенты беспрестанно поражались удивительным сходством между идеями и даже выражением того и другого»4.
Неприятности в судьбе и жизни о. Феодора начались для него именно с эпистолярной книги о Гоголе. В 1871 г. протоиерей Александр Лебедев (в ту пору — иерей), вспоминая об архимандрите Феодоре и его «Трех письмах к Н. В. Гоголю…», сообщал: «Первое из этих писем он представил <в 1849 г.> покойному митрополиту
Московскому, без разрешения которого нельзя было напечатать ни одного более или менее серьезного сочинения никому из подведомого ему духовенства. Митрополит взял у него статью, но выразил неудовольствие за такой предмет занятий профессора по Священному Писанию. После этого обстоятельства Феодор захворал и остался в Москве, в больнице при тамошней Духовной семинарии. Здесь списался он с Гоголем, и с этого времени познакомился с ним»5 (точная дата знакомства архимандрита Феодора с Гоголем, 19 августа 1851 г., установлена совсем недавно6).
М. П. Погодин в «Воспоминаниях об Александре Матвеевиче Бухареве (Архимандрит Феодор)», напечатанных 7 апреля 1874 г. в «Московских Ведомостях», также замечал: «Я слышал о нем много от Гоголя, с которым он был в близкой связи, и даже написал о нем книгу. Кстати, расскажу здесь анекдот. Когда автор, бакалавр Академии, представил свою книгу митрополиту Филарету, то митрополит выразил ему сильное неудовольствие за неприличный предмет занятий и на все его доводы говорил: “Это глупо”, или “Это гордо”, — так что Бухарев замолчал. Тогда митрополит сказал ему с сердцем: “Почему ты ничего не говоришь?” — “Потому, — отвечал Бухарев, — что я не хочу, сколько от меня зависит, говорить ни глупых, ни гордых речей”. Эти слова так подействовали на митрополита Филарета, что он вдруг смягчился и сказал ласково: “Ну вот, ты уже и рассердился!” — тотчас переменил совершенно тон и начал относиться уважительно. О. Феодор занемог вскоре после этой беседы и пролежал несколько дней в больнице. По выздоровлении, пред отъездом в Лавру, явился опять к митрополиту, который принял его с особенной лаской и провел с ним часа два в отечески-откровенной беседе, отказывая прочим посетителям»7.
2. Архимандрит Феодор и «Мертвые души»: прочтение авторского замысла
В «Трех письмах к Н. В. Гоголю, писанных в 1848 году» о. Феодор предпринял обстоятельное толкование «Мертвых душ» в свете известной книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Как известно, при личной встрече с Гоголем летом 1849 г. архимандрит Феодор, церковный писатель, близкий к славянофильским кругам8, зачитывал ему фрагменты своего «разбора “мертвых душ”» — и получил одобрение писателя. Позднее сам о. Феодор сообщал: «Помнится, <…> кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора “мертвых душ”, желая <…> познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы…»9 «Могу сказать, — замечал при этом о. Феодор, — что в главном и существенном, действительно, Бог дал, не допущено у меня ошибки»10. В. С. Аксакова, слышавшая отзыв Гоголя о заметках архимандрита Феодора сразу после их знакомства в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, 19 августа 1849 г., тоже свидетельствовала, что суждения отца Феодора пришлись Гоголю по душе. В письме к двоюродной сестре М. Г. Карташевской от 29 августа 1849 г. та сообщала: «У Троицы Гоголь виделся с от<цом> Феодором, бакалавром (От<ец> Феод<ор> не был прежде знаком с Г<оголем>… <…>. — Примеч. В. С. Аксаковой. — И. В.), который писал ему чрезвычайно умные и замечательные, по словам Гоголя, заметки на его книгу…»11
В адресованных Гоголю пространных письмах о. Феодор представил чрезвычайно глубокий и содержательный разбор гоголевской поэмы (этот разбор составил вторую главу (или “письмо”) его «Трех писем…»). Предпринимая разбор в свете «Выбранных мест из переписки с друзьями», Бухарев не просчитался, но «попал» в самую сердцевину гоголевских размышлений — нашедших воплощение не только в публицистике писателя, т. е. в «Выбранных местах…», но и в самой поэме12.
В основу своего анализа архимандрит Феодор положил созвучную взглядам самого Гоголя мысль о соответствии или несоответствии образа жизни героев христианским заповедям, идею должного, — и потому оказался весьма близок к авторскому пониманию характеров героев. Именно архимандрит Феодор, указав на отсутствие в главном герое «Мертвых душ» Чичикове «всего, что есть живого в православном русском: безусловной верности Царю, самопожертвования для отечества» и «христианской любви к людям»13, открыл связь замысла поэмы с утверждением начал Православия, Самодержавия, Народности. В литературнокритических толкованиях гоголевской поэмы эта основополагающая сторона авторского замысла была отмечена лишь однажды — и честь этого открытия принадлежит о. Феодору.
Если Аксаковы в оценке гоголевского художественного творчества категорически настаивали на невозможности соединения христианства и искусства 14 , то архимандрит Феодор первый, применительно к первому тому «Мертвых душ», обозначил христианское содержание гоголевских художественных образов.
Обращаясь к Гоголю, о. Феодор писал: «…Чувствую и самый, вовсе не смешной и не мелочный, предмет вашего сочувствия и любви, это есть дело жизни, всем нам православным общее, которое только предлагается каждому своим манером: Коробочке предлагается оно в ее хозяйстве, трактирщику в трактире, а нашему герою еще и сам не знаю в чем. Но в чем бы оно ни предлагалось, исполняют его или низвращают, все это есть дело нашей жизни, все касается лучшей и первой моей собственности, человеческого, православно-русского достоинства»15; «…В вашей поэме у вас дело идет о деле жизни православно-русской, в глубинах которой сокрыто данное от Бога Руси сокровище жизни общечеловеческой, да так и у многих из нас и оставлено в этой глубине»16.
В «сладком» Манилове о. Феодор обозначил тип людей хотя и «мягких и добросердечных», но «мало держащихся <…> строгой истины — Христа», — а оттого остающихся «пустыми и мелочным»17; в «дельности» Коробочки, хотя и «не похожей на маниловскую мечтательность», — указал отсутствие «сочувствия к чему-либо постороннему», кроме стремления «положить лишний целковик в мешочек» — занятия, составляющего целое « дело жизни некоторых русских людей»18. В Ноздреве, вся удаль которого «обращена на мотовство, на плутовскую игру в карты, на бесстыдное вранье, на бесцельное очернение всех и каждого», отец Феодор видел будущего «ратника добра»19; в топорном Собакевиче — усматривал «величие ушедшего в себя русского человека»20. Во всех типах он отмечал одинаковую непричастность к « делу жизни человеческой», забвение «внутренней драгоценности» человеческого существования21. «Под допрос о деле жизни» о. Феодор ставил также бесцельное скряжничество Плюшкина — непохожее, но сродное «обыкновенному у русских кутежу» и «мишурной», «бестолковой, ничего не щадящей роскоши»22. Пастырскому обличению о. Феодора был созвучен и смысл образов чиновников-взяточников «городских» глав гоголевской поэмы23.
Подытоживая наблюдения, о. Феодор писал: «И тяжело становится на душе от этих мертвых душ, ставших в какую-то взаимную живую связь между собою; тем тяжелее, что по общему всем нам православным делу жизни, по единству русского духа и я не могу отказаться от братства с Коробочкой и Ноздревым; тем тяжелее, что обличающий вопль попранного дела русской жизни, общего всем русским, невольно слышу и в моей душе. — Ибо Правда, осуждающая и поражающая Маниловых, Коробочку или Собакевича, а еще сильнее Чичикова, тем же самым необходимо грозит и всем, кто и в других областях жизни по своему осуществляет в себе эти типы»24.
Эту пастырскую мысль о. Феодора разделяли также другие церковные авторы, оценивавшие гоголевскую поэму. Духовный писатель игумен Сергий в 1904 г. писал: «Только наше себялюбие и духовная гордость хотят нас уверить, что мы “живые души” и будто бы не мы — Чичиковы, Собакевичи и т. п. выходцы Гоголевского мира…»25. Н. В. Неводчиков (впоследствии архиепископ Кишиневский Неофит) 23 апреля 1848 г. писал самому Гоголю: «“Мертвые Души” читал я многажды. Я всматривался в характеры Чичикова, Манилова, Ноздрева, и в них, как в зеркалах, поверял душевные движения. Не без стыда и досады, но признал же я в себе иные черты чичиковские, маниловские и даже ноздревские, и с того времени жажда к са-моисправлению показалась во мне»26.
3. Пути спасения: брак и монашество
Содержащийся в «Трех письмах…» о. Феодора разбор «Мертвых душ» является без преувеличения лучшим во всей критической литературе XIX в. — поскольку наиболее адекватен авторскому замыслу. Однако в размышлениях архимандрита Феодора о поэме Гоголя привлекает внимание еще одно малозаметное, но немаловажное обстоятельство, которое, как представляется, имеет самое прямое отношение к последующей судьбе монаха-расстриги. Для «Трех писем к Н. В. Гоголю…» характерно частое обращение о. Феодора к размышлениям Гоголя в «Мертвых душах» о роли женской красоты в возможном перерождении главного героя, Чичикова, а также к письмам-статьям в «Выбранных местах из переписки с друзьями» о благотворном влиянии женщины в современном обществе. Невольно возникает даже предположение: не послужил ли отчасти и Гоголь, его «Мертвые души» и «Выбранные места…», тому, что впоследствии о. Феодор преступил иноческие обеты?
Монашеские устремления Гоголя, до конца жизни пребывавшего в безбрачии, хорошо известны. 10 февраля 1842 г. он писал своему другу, поэту Н. М. Языкову: «…Нет выше удела на свете, как звание монаха» (XII, 12). В июне 1845 г. Гоголь даже выражал реальное желание «поступить в монастырь»27. Позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в статье «Чей удел на земле выше», датированной 1845 г., он замечал: «Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна» (VI, 153). В «Авторской апологии» (или, как чаще называют это произведение, «Авторской исповеди»), относящейся к лету 1847 г., Гоголь, в свою очередь, признавался: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я всё прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего» (VI, 241). В том же году художнику А. А. Иванову, увлеченному планами женитьбы на графине М. В. Апраксиной (вышедшей вскоре замуж за князя С. В. Мещерского), Гоголь писал: «Если вы подумали о каком домашнем очаге, о семейном быте и женщине, то, сами знаете, вряд ли эта доля для вас! Вы — нищий, и не иметь вам так же угла, где приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому Евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами» (XIV, 376). Хорошо знавший Гоголя В. А. Жуковский вскоре после его смерти писал П. А. Плетневу: «Настоящее его призвание было монашество… <…> …Ежели бы он не начал свои “Мертвые души”, которых окончание лежало на его совести <…>, то он давно бы был монахом… <…> По крайней мере, так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые Вы мне сообщили28. <…> Гоголь, стоящий четыре дня на коленях не вставая, не евши и не пивши, окруженный образами, но говорящий тем крот<к>о, которые о нем заботились: оставьте меня, мне хорошо, <…> эта молитва на коленях, продолжавшаяся четверо суток, есть нечто вселяющее глубокое благоговение: так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье»29.
Однако вопрос о монашеских устремлениях Гоголя не так прост, как может показаться на первый взгляд. Об этом косвенно свидетельствуют хотя бы строки одной из его статей в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Монастырь ваш — Россия!» (VI, 90, 96; «Нужно проездиться по России»). По поводу отношения писателя к браку его племянница А. В. Быкова, в частности, сообщала: «Моя мать Елисавета Васильевна была любимою сестрою дяди… И сколько она принесла ему горя своим замужеством! (свадьба Е. В. Гоголь и В. И. Быкова состоялось в 1851 г. — И. В. ) Не думайте, чтобы дядя имел что-либо против отца (имеется в виду В. И. Быков. — И. В. ), нет, он его очень любил и уважал; но в последние годы своей жизни стал относиться к браку вообще враждебно. Брак, по его мнению, был несчастием, от которого он хотел уберечь любимую сестру. “За Олю я покоен, — говаривал дядя о другой своей сестре, Ольге Васильевне, — она замуж не выйдет”. Тетя по-видимому оправдывала надежды брата. Жизнь вела уединенную в нашем родовом имении Васильевке-Яновке, лечила крестьян травами, которые привозил и присылал ей из Петербурга дядя, а в свободное время молилась Богу <…>. Такой образ жизни как нельзя больше был по душе набожному дяде, набожность которого в последнее время его жизни возрастала все более и более. Тетя Оля думала даже идти в монастырь, и намерение ее встретило со стороны дяди сочувствие, но дядя умер, тетя вскоре встретила Головню… Сама стала Головнею… Только третья сестра писателя Анна Васильевна осталась девушкою и ею умерла»30.
Как уже говорилось, А. А. Иванов в 1847 г. собирался жениться на графине Апраксиной. Гоголя художник называл «прекрасным теоретическим человеком» (XV, 394) и на его слова в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (в статье «Исторический живописец Иванов») о том, что «Иванов <…> ведет жизнь истинно монашескую» (VI, 124), иронически отвечал: «И очень бы не отказался иметь женой монахиню — женщину, занятую преследованием собственных своих пороков!» (XIV, 485). В этот же период он писал Апраксиным: «…Евангелист Лука в восторге описал последнюю ступень супружеского совершенства: они не женятся и замуж не будут выходить, как обыкновенные люди, [но яко Ангелы Божии]…»31 (Лк 20:35–36). Это своеобразное толкование слов Спасителя о невступлении в брак «сынов воскресения» (Иванов же стремился истолковать это состояние как «последнюю ступень супружеского совершенства») художник, очевидно, и привел в письме к Гоголю. Гоголь, как следует из цитированного его ответа, в письме от 24 июля (н. ст.) 1847 г., такое толкование решительно отверг.
Ведомостей 1853 г. 24 февр. № 24. С. 251. См. также: Плетнев П. А. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского // Живописный Сборник замечательных предметов из наук, художеств, промышленности и общежития / Издание А. А. Плюшара. СПб.: В типографии А. А. Плюшара, 1853. [Т. 3]. С. 395–396; [ Жуковский В. А. ] Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., испр. и доп., под ред. И. А. Ефремова. СПб.: Издание книгопродавца И. И. Глазунова, 1878. Т. 6. С. 605–606; Плетнев П. А. Соч. и переписка. По поручению Второго отделения Императорской Академии наук издал Я. Грот. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1885. Т. 3. С. 732–733; Смирнова-Россет А. О. Н. В. Гоголь // Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы) / Подготовила к печати Л. В. Крестова. С предисловием Д. Д. Благого. М.: Кооперативное издательство «Мир», 1931. С. 306–307. Заново по автографу, с ошибками и пропусками, напечатано: Смирнова-Россет А. О. Воспоминания о Н. В. Гоголе // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Издание подгот. С. В. Житомирская. М.: Наука, 1989. С. 68. Уточненную публикацию, по автографу А. О. Смирновой ( РГБ . Ф. 474. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 1–57), см. в изд.: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 2. С. 269–271. Копия письма Жуковского, рукою той же Смирновой, сохранилась в ее альбоме, предназначенном для сына Михаила (ОПИ ГИМ. Ф. 419. Собрание разрозненных документов личных архивов из коллекции Щукина. Л. 2–3 об.). В публикациях 1853, 1878, 1885 гг. и в мемуарах Смирновой письмо печаталось с искажениями. Цитируемый отрывок из письма приводится здесь с уточнениями по указанной копии Смирновой в ее альбоме.
30 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 1. С. 274.
31 Цит. по: Виноградов И. А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М.: ИД «XXI век — Согласие», 2001. С. 669.
4. Литература и жизнь:
Парадокс, однако, заключается в том, что, пожурив Иванова, Гоголь спустя лишь чуть более года сам попал «в ту же историю». Сохранилось предание, что Гоголь, несмотря на монашеские наклонности, сам в 1848 г.32 сватался к графине А. М. Виельгорской33. Спустя полтора года после резонного внушения Иванову в своей записной книжке он набросал следующую заметку: «…В основании христианского союза должно лежать спасенье души. В него вступать как в Божью пустынь, монастырь, почему недаром уподобляет апостол союз супругов союзу Христа с Церковью» (IX, 711) (имеются в виду слова св. апостола Павла в Послании к Ефесянам: «…муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви…»; гл. 5, ст. 23). Приведенные строки Гоголя датируются срединой сентября 1848 г.34, т. е. как раз временем его предполагаемого сватовства к Виельгорской. «Год приготовленья к супружеству… — продолжает здесь Гоголь, — <…> и, осенясь крестом, приниматься за дело, как в строгом монастыре, как в строгой школе» (IX, 711). По-видимому, эти размышления являются продолжением раздумий Гоголя о путях спасения — в монашестве или в брачном союзе, который в данном случае сравнивается даже с «строгим монастырем», или «пустынью». Апостольское понимание семьи как малой Церкви едва ли не подменяется здесь (так же, как ранее у Иванова) понятием «малого монастыря», что, вероятно, диктуется чаянием вступить в брак, не изменяя монашеским устремлениям. Этот путь, возможный для духовного брака, подобного браку графа А. П. Толстого с графиней А. Г. Толстой, близких друзей Гоголя, в отдельных случаях является, несомненно, опасным.
проблемы истолкования гоголевского наследия
В связи с судьбой о. Феодора, снявшего с себя церковный сан и вступившего в брак, особое внимание привлекает частое обращение А. М. Бухарева в «Трех письмах к Н. В. Гоголю…» к размышлениям о роли женщины в современном обществе. Судя по восприятию о. Феодором «Выбранных мест из переписки с друзьями», в самой гоголевской книге, с очевидностью обнаруживающей монашеские устремления писателя, есть особый, «параллельный» этим устремлениям подтекст, наводящий на мысли о «женитьбе» — как реальной (воплотившейся в последующей судьбе Бухарева), так и изображенной ранее в творчестве Гоголя в его комедии «Женитьба»35 (а также нашедший отражение в его предполагаемом сватовстве к Виельгорской).
В этом смысле, по-видимому, прав был святитель Игнатий (Брянчанинов), когда по поводу гоголевской «Переписки», адресуясь к монахам, замечал, что монахам следует читать монашеское, не заглядывая в светскую литературу (см.: IX, 756–758).
На это же обращал внимание архиепископ Ириней (Нестерович, 1783–1864), оценивая гоголевскую книгу в письме к князю П. А. Вяземскому от 13 сентября 1847 г.: «Чем начинает книгу? Женщиною (имеется в виду статья “Женщина в свете”. — И. В.). Выставляет избранную. В обществе от ее прелестей забывают свою чувственность самые поклонники чувственности. — Но это ли говорит опыт? Напротив; но <2–3 нрзб.> служит развитию этого влечения к женщине»36.
В свою очередь С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану от 14–16 января 1847 г. по поводу гоголевской статьи «Женщина в свете» не без запальчивости восклицал: «Меня оскорбило письмо его к Веневитиновой, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано ангельскими устами и небесным голосом, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о рукоплесканиях на небесах »37.
Напротив, архимандрит Феодор писал по поводу той же статьи Гоголя: «Понятна сама по себе верность и той глубокой в своих основаниях мысли Гоголя, что особенно христиански настроенная женщина может и должна служить к незаметному смягчению и освещению жесткости духовной в обществе»38.
По поводу изображенного в «Мертвых душах» любования Чичикова губернаторской дочкой, влюбленности в нее героя, о. Феодор тоже замечал: «Как бы кто ни объяснял случившегося с Павлом Ивановичем <…>, но для меня очевидно, что душе его в лице незнакомки повиделся иной высший образ или, выражаясь по вашему, послышалась, как будто с неба прилетевшая, родная сестра (цитируются строки статьи “Женщина в свете” . — И. В. ), и в Павле Ивановиче пошевелилась тоже как будто иная высшая личность, в которой нет ни тени своекорыстного эгоизма. <…> …Если другие благодатные средства оказываются недействительными к духовному оживлению человека, погрязшего в эгоистически-житейском омуте <…>; то у благодари Божией может послужить этому ее делу и этот немощной сосуд женщина, Евва, обновленная в Христианстве уже в другой Высший образ. <…> …Что если в самом деле случилось бы так, <что> дамы благоухали невинностью и свежестию души <…> то, точно, и балы к чему-нибудь пригодились бы, и тут, пожалуй, могло бы начаться незаметно само-исправление иного человека, который хотя бы пред одной из таких женщин даже слова не дерзнул бы сказать, опасаясь, что оно отзовется, пожалуй, чем-нибудь ухор-ским (еще раз цитируется статья “Женщина в свете” . — И. В. )…»39
Протоиерей Павел Алексеевич Матвеевский (1828–1900), рецензируя книгу о. Феодора о Гоголе прямо указывал, что в числе «орудий», какие «Промысл Божий мог бы употребить <…>, чтобы <…> Церковь все в нас просветила», архимандрит Феодор в гоголевских взглядах выделял Царя, народ и… «женщину, <…> преимущественно мать семейства»40. Согласно пересказу о. Павла (в его рецензии), последняя, «проникшись желанием добра, <…> много может содействовать и частному благу своего мужа, удерживая его на пути чести и долга, и благу общества, оживляя и освежая его»41.
Размышления о женщине часто встречаются и в других трудах архимандрита Феодора. Так, на высокое духовное предназначение женщины он указывал в 1859 г., анализируя картину А. А. Иванова «Явление Мессии». Причем делал это о. Феодор, с очевидностью, прямо вопреки замыслу самого Иванова (и помогавшего художнику в разработке замысла картины Гоголя). Художник полагал показать в образах людей, слушающих проповедь Предтечи, и мужчин и женщин, без изъятия, общую страстность человеческой природы42. Не соглашаясь с такой оценкой женщины — с отведенной ей ролью быть в общем ряду неуверовавших книжников и фарисеев, представителей народа, отвергнувшего Спасителя, — о. Феодор, — беседовавший с Гоголем об ивановской картине в 1849 г. (в ту пору «Явление Мессии» еще находилось в Италии, в Риме), — десять лет спустя замечал: «Да, в Предтече Господнем <…> приметно трепетное предчувствие, что <…> отвержение Господа книжниками и фарисеями <…> случится с Божиим народом. <…> Если благодать Явления Агнца ни в одном из них не находит благонадежного соответствия себе; то не покажет ли она чем-нибудь, по крайней мере, отдаленной возможности к духовному оживлению людей?.. <…> В картине Иванова можно примечать, что творческая его мысль <…> разрешала такой вопрос. Это у него выразилось в том, что именно около или вблизи книжников и фарисеев находятся на картине женщины… <…> Во Христе <…> женщина <…> незаметно может иметь благотворное и спасительное влияние на общество. <…> Женщины у Иванова <…> возвышаются над бесплодной религиозной сантиментальностию. Правда, Гоголь, помнится, заметил в их выражении, когда картина только еще писалась, — нечто страстное; видно, художник, имея пред собою образцы латинской эффектной набожности, сначала сбивался было на религиозную сантиментальность. Но теперь в законченном создании не видно уже и следа чего-либо подобного. <…> Таким образом <…> живописцу Господь дал ощутить и творчески вопроизвесть, как благодать явившегося Агнца Божия предначинала устроять потребные себе сосуды в израильтянках. <…> …Около самых безнадежных типов фарисейства <…><вы> видите женщину <…> с таким добросердечным, материнским выражением, <…> как будто она <…> понимает потребность в <…> этом <…> умягчающем влиянии <…> для ожестелого <…> сердца <…> фарисеев… <…> Другая женщина <…> видна в близости к истомленному бесплодною борьбою подвижнику рабской подзаконной правды. <…> Наконец, есть и еще, на картине Иванова, израильтянка, <…> в которой <…> выражается вся тайна и условие духовной благотворности женского влияния. <…> …Женщина могла бы вносить живительный и светоносный дух Христов в самые зачерствелые души и матерински его поддерживать…»43
«Гендерный» аспект в богословских рассуждениях архимандрита Феодора, размышления о «духовной благотворности женского влияния», возможно, прямо сказались в его последующей судьбе.
Справедливости ради следует отметить, что архимандрит Феодор был почитателем не только Гоголя — что в целом можно объяснить духовной направленностью гоголевского творчества. Однако о. Феодор, будучи и в монашеском звании, любил читать также В. Г. Белинского. Прямое признание А. М. Бухарева в «Трех письмах к Н. В. Гоголю…» о «чрезвычайной духовной пользе» от чтения статей Белинского — в отношении «именно к богословскому его образованию» — заставляет задуматься. О. Феодор сообщал, что его обучению в Московской Духовной академии способствовало одновременное чтение критик Белинского: «…Следя систему его мыслей, извращающую Христову истину, я в своем уме развивал жи вую систему самой
1994. Т. 9. С. 513–530; Виноградов И. Явление картины — Гоголь и Александр Иванов // Наше наследие. 2000. № 54. С. 110–125; Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов. К истории создания картины «Явление Мессии» // Виноградов И. А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М.: ИД «XXI век — Согласие», 2001. С. 670–708; Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов в работе над картиной «Явление Мессии» // Литературный процесс в России XVIII–XIX вв. Светская и духовная словесность / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН; отв. ред. М. И. Щербакова, В. Г. Андреева. М.: ИМЛИ РАН, 2020. Вып. 2. С. 159–176; Виноградов И. А. Гоголь и «Явление Мессии» Александра Иванова: О замысле картины // Гоголь и мировая художественная культура. Двадцатые Гоголевские чтения. Сб. научных статей по материалам Междунар. научн. конф. / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека»; под общ. ред. В. П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2021. С. 219–228.
-
43 Феодор [Бухарев А. М.], А[рхимандрит]. О картине Иванова Явление Христа миру. СПб.: Типография М. О. Вольфа, 1859. С. 22–25.
Христовой истины»44. По поводу этого сомнительного утверждения — о возможности «доходить до светлой <…> веры путем отрицательным — чрез чтение и изучение писателей не просто светских, а даже отличающихся известным направлением» — протоиерей Павел Матвеевский, рецензент «Трех писем к Н. В. Гоголю…», не без иронии замечал: «Такие мысли развивает о. Феодор в предварительной статье своей “К читателю”. Насколько они справедливы, видно с первого разу»45.
Мысли о «духовной пользе» статей Белинского о. Феодор развивает непосредственно за тем фрагментом, где приводит слова Гоголя, которые тот сказал воспитанникам Московской Духовной академии: «Мы все работаем у одного Хозяина»46. Тем самым о. Феодор как бы давал понять, что «работу» «у одного Хозяина» — у Бога — выполнял, лично для него, своими статьями, и радикальный критик Белинский.
О. Феодор писал: «…Мне лично известен один человек, который чрезвычайную духовную пользу, относящуюся именно к богословскому его образованно, получал от светского писателя, известного притом направлением, со всем по-видимому противоположным и Гоголевскому, как это последнее выражено в выбранных местах из переписки Гоголя. “Когда во мне, — говорил этот человек, — только что возбуждалась самостоятельная мысль, я любил читать в «Отечественных Записках» статьи, относящиеся к критике, писанные покойным Белинским. Само собою разумеется, что настоящего значения его мыслей я не понял, или лучше понимал их по-своему. Известно, что он иногда в развитии своих мыслей цит<ир>овал тексты из Св. Писания. Он давал этим текстам свою мысль, а я понимал их в их надлежащем значении, и соответственно этому понимал и всю его речь. И потому выходило, что следя систему его мыслей, извращающую Христову истину, я в своем уме развивал живую систему самой Христовой истины. И сколько, помню, радостей было у меня, что вот наконец взялись люди за ум углубляться в премудрость Божию и раскрывать ее свет для всяких дел! Я обманывался; но, благодаря именно такому чтению Белинского, мысль моя довольно развилась и окрепла в светлом, живом и отчетливом направлении Веры. Добрые следствия этого для меня вышли самые неоцененные. С одной стороны, я уже никак не останавливался на одной букве текстов, изучаемых в богословских науках; ум мой, верный направлению Веры, всегда стремился входить в самую силу догматов, и Святые Отцы для меня были авторитетами живой, обнимающей в высших своих представителях (как в святых, Василии Великом, Григории Богослове, Иоанне Златоусте, Иоанне Дамаскине и др.) все современное им образование, мысли Веры. С другой стороны, когда случалось слышать и изучать ту или другую науку по началам новейшей философии, ум мой всегда работал на возведении этой науки и ее начал к истине Христовой, как это было у меня (только не так сознательно) и при чтении Белинского. Мысль моя так настроилась, что безотчетно не поддавалась в науке никому и ничему, обращая все в разумное по вере служение Христу. Рим. XII, 1. После этого, как же я могу смотреть и на светскую литературу, как стороннюю и чужую для моего богословского образования? Напротив, по собственному моему опыту вижу, что иное направление мысли и слова, и не признавая открытым образом Христа своим началоводцем, тем не менее может находиться под Его же незримым водительством и благоуправиться Им на пользу веры и любви к Христовой истине, подобно язычнику Киру, освободившему Израиля от вавилонского плена”. Ис. XLV, 1–5. Так то говорит нередко этот близкий ко мне человек, и знаю, что он говорит совершенную правду»47.
В 1905 г. протоиерей Валериан Лаврский свидетельствовал об этих словах архимандрита Феодора: «Здесь он говорит о себе в третьем лице, как бы о ком-то другом;
но я знаю из личных его бесед со мной, что это относится к нему самому и именно ко времени его студенчества в Московской академии»48. Ранее, в 1896 г., об этом же сообщала А. С. Бухарева: «В предисловии к письмам к Гоголю Александр Матвеевич говорит, какое влияние имело на него чтение статей Белинского. Говорит он о себе в третьем лице. <…> …Если взять во внимание, что письма к Гоголю были написаны в 1848 г. <…>, через два года по поступлении Александра Матвеевича в монашество; <…> нельзя не увидеть, что то, что письма эти в себе содержат, давно уже созрело в мыслях и чувстве их автора»49.
М. П. Погодин отмечал, что подобное явление, когда воспитанники духовных школ зачитывались Белинским, было не единичным: «Обаяние первых поклонников Белинского в Петербурге <…>, кадетов, гимназистов, семинаристов, студентов, основателей его славы, которые потом сделались учителями, инспекторами и директорами, можно объяснить обстоятельствами того времени, когда живой голос, и притом голос отрицательный, был в диковинку»50. (К этому Погодин добавлял: «…Но продолжающееся до сих пор у многих учителей безусловное уважение к словам Белинского, при всем их взаимном противоречии, можно объяснить только низким уровнем нашего образования, преимущественно педагогического»51.)
По-видимому, дело объяснялось тем, что в свои права вступала эпоха второй, предреволюционной половины XIX в., когда понятия смешивались и современники теряли прочные духовные ориентиры. В те времена не только среди гимназистов и семинаристов, но даже среди профессоров Духовных академий оказывались подчас не просто читатели Белинского, но и его прямые сторонники. В частности, таким оказался профессор гражданской истории Киевской Духовной академии Владимир Зенонович Завитневич (1853–1927), резко отрицательно, с позиций Белинского, оценивший в 1902 г. гоголевский религиозно-нравственный сборник «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви» — ставший тогда известным современникам52.
В таком свете становится затруднительным ответить на вопрос, откуда же в конце концов у о. Феодора его принципиальное стремление «свет Христов <…> низводить», как он сам говорил, «с небесной высоты в низменность человеческой жизни»53. Учитывая давний интерес о. Феодора к статьям Белинского, такая мысль могла быть одинаково почерпнута двадцатишестилетним иноком и у Гоголя, и у Белинского. Основатель радикальной «натуральной школы», как известно, тоже декларировал принцип «снисхождения» к падшим. Разница во взглядах двух ведущих тогдашних литераторов, писателя и критика, была, однако, существенной: она заключалась в практическом применении этой идеи. Если у Гоголя христианское милосердие к человеку, к «мертвым душам», оставалось церковным, то у Белинского «христианский», по-видимости, тезис получал характер однозначно политический, противоправительственный и антицерковный. Об этом сам Белинский открыто заявлял в своем известном зальцбруннском письме к Гоголю 1847 г.: «…Смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер <…> больше сын Христа, <…> нежели все ваши попы…» (XIV, 369). В этом весьма значимом отличии, надо сказать, заключается принципиальная разница между Гоголем и его мнимыми радикальными «последователями» — литератора-ми-«натуралистами» западнической школы Белинского.
Главный вывод, который следует из предпринятых наблюдений, состоит, таким образом, в предположении, что внутренние причины выхода о. Феодора из духовного звания следует искать в начале его иноческого пути. Заинтересованное чтение будущим монахом критических статей Белинского, а впоследствии странное для принявшего иночество лица повышенное внимание в произведениях Гоголя к «женской» теме наводят на мысль, что долгие годы о. Феодор находился в состоянии духовного борения, о котором св. апостол Павел говорит в Послании к Галатам: «…Плоть бо по-хотствует на дух, дух же на плоть: сия же друг другу противятся, да не яже хощете, сия творите» (гл. 5, ст. 17). Борьба эта, судя по содержанию «Трех писем к Н. В. Гоголю…», стала разворачиваться еще в начале жизненного пути А. М. Бухарева и закончилась, к сожалению, не в его пользу.
Список литературы Между светской литературой и богословием: архимандрит Феодор (Бухарев) - читатель Гоголя
- Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et contra. Личность и творчество архимандрита Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / Сост., вступ. ст., примеч., указ. Б. Ф. Егорова; вступ. ст., примеч., хроника жизни А. М. Бухарева Н. В. Серебенникова; примеч., библиогр., указ. А. П. Дмитриева. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. 832 с. — Серия «Русский путь».
- Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики / Сост. П. Проценко; Печатается по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая: В 4 т. Нижний Новгород: Издание Братства во имя святого князя Александра Невского, 1995. Т. 1. 478 с.
- Виноградов И. А. Пояснения к иллюстрациям // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. (В 7 кн.) / Составление и комментарии В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. Т. 9. С. 513–530.
- Виноградов И. Явление картины — Гоголь и Александр Иванов // Наше наследие. 2000. № 54. С. 110–125.
- Виноградов И. А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М.: ИД «XXI век — Согласие», 2001. 776 с.
- Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов. К истории создания картины «Явление Мессии» // Виноградов И. А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М.: ИД «XXI век — Согласие», 2001. С. 670–708.
- Виноградов И. А. «Дело жизни» Н. В. Гоголя и вопрос о его сватовстве к графине А. М. Виельгорской // Писатель в контексте времени: проблема научного комментария. Сб. статей / Министерство образования и науки Российской Федерации; Государственная академия славянской культуры. Отв. ред. и сост. В. И. Мельник; ред. О. А. Туфанова. М.: ГАСК, 2011. С. 50–64.
- Виноградов И. А. Гоголь и графиня А. М. Виельгорская: Вопрос о сватовстве в изучении замысла «Мертвых душ» // Гоголезнавчi студЇi. Гоголеведческие студии / Нежинский гос. ун-т им. Н. Гоголя, Гоголеведческий центр; Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины. Нежин, 2013. Вып. 3 (20). С. 14–30.
- Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). Научное издание: В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017–2018. Т. 1–7. 736 + 672 + 672 + 704 + 928 + 656 + 640 с.
- Виноградов И. А. Монолог Гоголя в многоголосье «Женитьбы» // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 1. С. 66–102. https://doi.org/10.15393/j9.art.2018.4781
- Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: невостребованное и забытое // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 62–153. С. 121–129. https://doi.org/10.22455/2686–7494–2020–2–1–62–153
- Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и А. А. Иванов в работе над картиной «Явление Мессии» // Литературный процесс в России XVIII–XIX вв. Светская и духовная словесность / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН; отв. ред. М. И. Щербакова, В. Г. Андреева. М.: ИМЛИ РАН, 2020. Вып. 2. С. 159–176. https://doi.org/10.22455/Lit.pr.2020–2–159–176
- Виноградов И. А. Гоголь и «Явление Мессии» Александра Иванова: О замысле картины // Гоголь и мировая художественная культура. Двадцатые Гоголевские чтения. Сб. научных статей по материалам Междунар. научн. конф. / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека»; под общ. ред. В. П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2021. С. 219–228.
- Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и журнал «Христианское Чтение»: Роль патристики в становлении писателя (1820‑е гг.) // Христианское чтение. 2022. № 4. С. 84–97. https://doi.org/10.47132/1814–5574_2022_4_84
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010. 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 с.
- Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств: В 3 т. / Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Т. 1. 904 с.; 2012. Т. 2. 1032 с.; 2013. Т. 3. 1168 с.
- Долгополова С. А. Гоголевская комната в Мурановском доме (О роли предания в усадебной жизни) // Н. В. Гоголь и мировая культура: Вторые Гоголевские чтения: Сб. докл. / Правительство Москвы; Комитет по культуре г. Москвы; Гор. б-ка № 2 им. Н. В. Гоголя; Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Книжный дом «Университет», 2003. С. 203–215.
- [Жуковский В. А.] Письма В. А. Жуковского // Литературный отдел Московских Ведомостей 1853 г. 24 февр. № 24. С. 250–252.
- [Жуковский В. А.] Соч. В. А. Жуковского. 7‑е изд., испр. и доп., под ред. И. А. Ефремова. СПб.: Издание книгопродавца И. И. Глазунова, 1878. Т. 6. 688 с.
- Лаврский В., прот. Мои воспоминания об архимандрите Феодоре (А. М. Бухареве). (Продолжение) // Богословский Вестник. 1906. Т. 2. № 5. [Отд. 2]. С. 98–128.
- [Лебедев А. А., протоиерей. Некролог-воспоминание о А. М. Бухареве (бывшем архимандрите Феодоре)]. Петербургская хроника // Голос. 1871. 3 мая. № 121. С. 1–2.
- Матвеевский П., священник. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб. 1860 г., 80. 260 стр. // Странник. 1861. Октябрь. С. 70–79.
- [Модестов С. С., протоиерей]. Из воспоминаний протоиерея С. С. Модестова // У Троицы в Академии. 1814–1914. Юбилейный сборник исторических материалов / Издание бывших воспитанников Московской Духовной Академии. М.: Типография Т[оварищест]ва И. Д. Сытина, 1914. С. 112–130.
- Плетнев П. А. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского // Живописный Сборник замечательных предметов из наук, художеств, промышленности и общежития / Издание А. А. Плюшара. СПб.: В типографии А. А. Плюшара, 1853. [Т. 3]. С. 355–397.
- Плетнев П. А. Соч. и переписка. По поручению Второго отделения Императорской Академии наук издал Я. Грот. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1885. Т. 3. 745 с.
- Погодин М. К характеристике Белинского. (Справка с объяснением) // Гражданин. Газета-журнал политический и литературный. 1873. 26 февр. № 9. С. 272–275.
- Сергий, игумен. Писатель-христианин // Странник. 1904. Т. 2. Ч. 2. Декабрь. С. 800–818.
- Смирнова-Россет А. О. Н. В. Гоголь // Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы) / Подготовила к печати Л. В. Крестова. С предисловием Д. Д. Благого. М.:Кооперативное издательство «Мир», 1931. С. 271–311.
- Смирнова-Россет А. О. Воспоминания о Н. В. Гоголе // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Издание подгот. С. В. Житомирская. М.: Наука, 1989. С. 42–72.
- Феодор [Бухарев А. М.], А[рхимандрит]. О картине Иванова Явление Христа миру. СПб.: Типография М. О. Вольфа, 1859. 29 с.
- [Феодор (Бухарев А. М.), архимандрит]. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб.: В Типографии Морского Министерства, 1860. 262 с.
- Феодор (Бухарев), архимандрит. О героях поэмы «Мертвые души» / Подготовка текста и примеч. И. А. Виноградова // Н. В. Гоголь и Православие. Сборник статей о творчестве Н. В. Гоголя. М.: Издательский дом «К единству!» Международного общественного Фонда единства православных народов, 2004. С. 205–230.
- Хондзинский П., прот., Гаврилов И. Б., Даренский В. Ю., Павлюченков Н. Н., Фатеев В. А. Александр Матвеевич Бухарев (архимандрит Феодор): pro et contra. К 200‑летию со дня рождения. Материалы круглого стола научного журнала СПбДА «Русско-Византийский вестник» // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4 (15). С. 10–35.