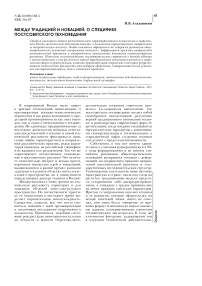Между традицией и новацией: о специфике постсоветского техноведения
Автор: Аладышкин Иван Владимирович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Стратегия дискурса
Статья в выпуске: 4 (37), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена общим отличительным характеристикам осмысления в современной России технической действительности и выявлению перспективных направлений ее теоретического анализа. Особое внимание обращается на издержки реновации общетеоретических оснований восприятия техники с деформацией прежних направлений аналитической практики и утверждением техногенных доминант социокультурного развития. Показаны многоукладность исследовательских стратегий в данной области с напластованием в них различных версий традиционного понимания техники и современных форм ее артикуляции, а также противоречивое сохранение в текущих репрезентациях технической реальности утилитарно-орудийных, натуралистических установок как дореволюционного, так и советского прошлого.
Интеллектуальные традиции, модели репрезентации, техническая действительность, техницизм, техногенные доминанты современной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14031959
IDR: 14031959 | УДК: 62(09):168.5
Текст научной статьи Между традицией и новацией: о специфике постсоветского техноведения
Аладышкин И.В. Между традицией и новацией: о специфике постсоветского техноведения // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 4. – С. 47–51.
В современной России часто пишут о кризисе техногенной цивилизации, о противоречиях технико-технологических перспектив и так редко вспоминают о предельной противоречивости как этих выводов, так и самого отечественного техноведения. Не единожды предпринимаемые за последние десятилетия попытки аттестации представлений о технике и самой технической реальности фиксировали лишь самые общие характеристики и направления аналитических практик, редко акцентируя внимание на российской специфике и не вдаваясь в ее разъяснения. Так что же характеризует отечественное техноведение в постсоветских реалиях? Что отличает относительно пестрое и весьма противоречивое множество идей и концепций, выдвигавшихся в разное время с разными задачами и в разных областях интеллектуального пространства, но в совокупности определяющих дискурс техники в России?
Множественность точек зрения на техническую реальность характерна и для западных областей интеллектуального пространства. Но отечественную практику ее осмысления в последнее время выделяет поразительная многоукладность. Смешалось, кажется, все, что могло смешаться, начиная с идей органопроекции и заканчивая последними открытиями в космологии. Признаться, подобное состояние рождает даже некоторую ностальгию по четкости и ясности теоретико-мето- дологических установок советского прошлого. Складывается впечатление, что постсоветское техноведение являет собой своеобразное напластование различных версий традиционного понимания техники и разносортных современных форм ее артикуляции, когда воедино смешиваются прогрессистские парадигмы с концепциями самоорганизации и техноэволюции, а старозаветный пафос служения техники соседствует с пределами автономности.
Собственно, в том нет ничего удивительного, учитывая развернувшуюся в 90е годы форсированную и во многом стихийную реновацию общетеоретических оснований восприятия техники с деформацией, но сохранением прежних направлений аналитической практики и государственных исследовательских структур. Техноведение, как и многие иные научные пространства в стране, оказалось тогда на распутье: традиционные модели предстали устаревшими либо дискредитированными, а западные с трудом приживались на почве прежних советских параметров. Притом те направления анализа техники и ее развития, которые оформлялись на исходе советской эпохи, никто не отменял, они лишь были «очищены» от прежних формул и штампов да подчас освежены идеями, альтернативными советским техноведческим магистралям. К тому же ключевыми фигурами, задававшими тон в изучении технической действительно-
Общество
сти – В.М. Розин, В.Г. Горохов, Б.И. Кудрин, Э.С. Демиденко, Е.А. Шаповалов и др., оставались те исследователи, кто обратился к этой проблеме и разработке своих авторских подходов в советском прошлом.
Общее русло реновации техноведения с усилением социокультурных параметров анализа также было отнюдь не новым и
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015
тесно сопрягалось с ранее взятым курсом на преодоление прежних техницистских установок и критику западных технократических построений. Только в преодолении и критике полагались не столько на идеи социологии и философии техники 60– 80-х гг., а на более ранние версии аналитических практик. Особым спросом пользовалось даже не наследие франкфуртской школы, а ранняя экзистенциалистская критика техники, прежде всего К. Ясперса, Х. Ортега-и-Гассета и М. Хайдеггера или же историософские построения О. Шпенглера, теологические прозрения Ф. Дессау-эра да экстравагантные исторические экскурсы Л. Мамфорда. Подобную расстановку приоритетов наглядно иллюстрируют антологии философии техники, увидевшие свет в последние годы [21].
Среди отечественных авторов первое место по цитируемости досталось отнюдь не «отцу» русской философии техники – П.К. Энгельмейеру, а Н. Бердяеву и другим представителям религиозного идеализма, в известной степени близких экзистенциалистской философии, а также крайне неординарному наследию русского космизма. Поэтому в заданном контексте вполне закономерно выглядит и отстаивание актуальности «взгляда из лавры» П. Флоренского на проблему «возможности техники» или же выводы о достаточности платонизма в объяснении сущности современной техники» [15, с. 77]
Для понимания подобных приоритетов «обновления» отечественного дискурса техники важно учитывать не только обостренный социокультурными перипетиями 90-х поиск неких историко-культурных традиций. Стоит вспомнить и общие настроения, царившие в научно-интеллектуальной среде. Не без подачи западной социологии и футурологии отечественное техноведение не на шутку обеспокоилось множеством проблем, которые до этого списывались на технократические фантазии и реалии капитализма. Социотехнические противоречия (от проблем технологической адаптации до усиления давления на природную среду) привлекали внимание и ранее, но негативизм оценок сдерживался идеологическими постулатами. В 90-е гг. негативизм только подогревался осознанием очевидного краха советского технического проекта, прощанием с либерально-демократическими надеждами, углублением экономического кризиса и приближением рубежа тысячелетий. Общий технико-технологический скепсис, доходивший порой до откровенного пессимизма, в среде российских специалистов обернулся антитехницизмом, в котором нашел свой аксиологический противовес некритический оптимизм в отношении техники, господствовавший в Стране Советов. Технико-технологические доминанты социокультурного развития утверждали и получившие поразительную популярность постиндустриальные и информационные концепции, которые подавались без того налета технического оптимизма, который был свойственен американским и японским авторам.
По завершении «холодной войны» и угасанию фобий ядерной зимы техника и неудержимый технологический рост из главного механизма достижения общественного благополучия превращалась в главную угрозу, куда более опасную в силу своей неизбежности и куда более реальную в силу немыслимости ее отсутствия. С утерей сглаживающего эффекта социалистических приоритетов, определяющих ключевые противоречия современности в качестве противоречий преимущественно капиталистического мира, вина возлагалась на характер технико-технологического развития человечества. Причем разрешение любых проблем, как невозобновляемости природных ресурсов и ограниченных рекреационных возможностей биосферы, так и разрыва экономического центра и отсталой периферии либо нюансов здравоохранения, мыслилось опять же в дальнейшем совершенствовании технологий.
Вместе с новыми социотехническими перспективами пришли и новые опасения. И почти с той же ретивостью, с которой некогда восхваляли технический гений человека и будущие его достижения, в последние десятилетия писали о кризисе техногенной цивилизации, утрате контроля над технологическим ростом и формированием искусственной среды, замыкающей человечество и вытесняющей природные начала. Разносортные техногенные «кризисы» и «тупики» по-прежнему пользуются спросом, хотя и растеряли прежнюю остроту, пополнив привычный набор мало обязывающих речевых оборотов [2; 11].
Фиксация новых аспектов технической реальности с перегибами техноутопизма, крайностями эмоционально-психологи- ческого переживания возрастания социальной роли техники закономерно оборачивалась гипертрофией техногенных параметров современного общества. Казалось бы, неотехнократизм и неотехницизм, не имевшие в России социально-экономической и технической почвы, за редким исключением оставались чужды российским специалистам, столько сил положивших на их изобличение и дискредитацию [17; 20; 22; 13]. Однако выводы критиков всякий раз оказывались неожиданно близки критикуемым положениям.
Техницизм и антитехницизм, технократизм и антитехнократизм – полярности во многом кажущиеся, скрывающие единство исходных посылок. Чему служили бичевания человека, не создающего и использующего, а обслуживающего технику, человека, представшего ее рабом и заложником технического прогресса? Все аргументы превращения человека в придаток техники, лишившегося духовного богатства и разносторонности мышления, как и темы утраты контроля над технической экспансией и неких фундаментальных техногенных противоречий развития человечества, столь часто служивших оружием против перегибов техноцентризма, по сути, служили последнему. Все программы детехнизации и регуманизации, коих в постсоветской литературе было немало, исходят из признания поступательно неконтролируемой технизации общества и на поверку оказываются формой «прикрытия» (согласно терминологии М. Фуко) техницистских установок советского прошлого и технократических доводов западных интеллектуалов. В конечном итоге безмерная критика техницизма и технократизма только придавала правдоподобия постулатам последних и содействовала признанию техногенных доминант социокультурного развития.
Иной и менее болезненный путь утверждения новых техногенных приоритетов прослеживается в ориентирах на предельное расширение, как содержательных характеристик техники, так и области ее анализа. Междисциплинарность приветствовалась в преодолении прежних орудийно-материалистических и производственных установок понимания техники. В то же время порочный круг техницизма подталкивал к поиску содержательного выхода за пределы оппозиции техницизма/антитехницизма и технологического детерминизма. Надежды на преодоление и выход даровало смещение исследовательского интереса. С конца 80-х все большую роль начинали играть работы по социально-экологическим аспектам тех- ники. Приоритеты проблемного ряда переворачивались, выстраиваясь в обратном порядке. Социальная либо экологическая тематика выступала в качестве главенствующей, а техническая компонента оказывалась лишь вспомогательным методологическим инструментарием.
Предметная конкретность размывалась особенно в социокультурных моделях изучения техники, для которых изначально была свойственна редукция последней к различным внетехническим онтологиям: деятельности, типам рациональности, ценностям, различным аспектам культуры. С другой стороны, популярность набирала естественно-научная парадигма осмысления техники, полагающая ее особым природным явлением с некими абстрактно-всеобщими законами развития [6]. Так, заметный резонанс среди философов и социологов техники в новой России получила концепция техноэволюции Б.И. Кудрина, именуемая технетикой [10; 3]. В результате происходило своеобразное «распредмечивание» техники, которую подменяли антропологические характеристики, формы социальной активности либо природно-эволюционные порядки. В итоге техническая действительность полагалась всем и ничем. Предельному расширению представлений о технической действительности в известной степени содействовало и оформление представлений о мире техники и технологий как о глобальной, единой и цельной, всепроникающей технико-технологической системе. В последние десятилетия складываются соответствующие научные направления и школы, в частности, брянская научно-философская школа соци-оприродных исследований формирования глобального техногенного общества и техносферы [например, 4; 5; 16]
В выводах о диктате технической рациональности, всепоглощающей технике и неподвластном ее прогрессе без труда угадывается старательное повторение умозаключений западной социологии и философии техники 70–80-х гг., к тому времени уже привычно функционировавших в многомерной системе разносортных представлений о технике, т.е. в той системе, с которой только свыкаются российские исследователи. Специфика интерпретации понятия «технология» в советской философии культуры и ее прочная связь с американской национальной идентичностью и социокультурной интерпретацией рассмотрена в работах Н.В. Никифоровой [14; 23]. Самое интересное другое. На протяжении последних десятилетий отечественная мысль предпринимала безмерные
Общество
усилия, дабы обновить имеющиеся интерпретационные модели и приобщиться к современному западному дискурсу техники, но зачастую ради того, чтобы уполно- мочить его служить прежним моделям экспликации технической реальности.
Смешение символики, более приближенной к современным приметам мысли, обилие международных конвертируемых терминов часто скрывают старые добрые традиционные ориентиры. В то время как многие видные авторские позиции с универсальными моделями глобальной техники, некими непреложными законами ее развития сохраняют отчетливые следы утилитарно-орудийных, материалистических трактовок советского прошлого. Лишившись жесткой опеки, распавшись на бесчисленное множество составляющих элементов, слабо связанных между собой, отечественное техноведение буквально разрывалось между инерционными силами советского прошлого, обновленческими поветриями и заимствованиями западного опыта. Причем обновлению действительно способствовал известный традиционализм отечественного дискурса техники.
Новые техногенные доминанты соци- окультурного развития оказались чужды значительной части отечественных исследователей, и постсоветские реалии отнюдь не создавали подходящей почвы для их принятия. Как следствие, в констатациях кризиса техногенной цивилизации слышались инвективы извечного антизападничества и традиционалистское неприятие текущих трансформаций, а в предложениях изменения ценностных ориентиров в отношении техники читалось знакомое
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015
тяготение к идеальным внеисторическим порядкам. В то же время введение технической проблематики в широкий диапазон социокультурных проблем обусловливала неизменная этическая составляющая русской мысли с повышенным вниманием, особенно в философских ее ракурсах, к судьбам общества и человека. В общие мировоззренческие порядки переводятся любые аспекты окружающего мира. Переводятся нередко с характерными оценочными параметрами, что формально сближало с актуальными аксиологическими измерениями техники, но сближало очень своеобразно. Кроме прочего, рудименты традиционализма с тотализирующим властным зарядом целого и всеобщного взваливают на плечи отечественных авторов ответственность за судьбы всего человечества, напоминающие об очередной реинкарнации «русского мессианства».
В своеобразном парадигмальном сдвиге от редукционистских моделей репрезентации техники к холистическому, целостному ее восприятию в качестве объективно целого мира техники и технологии, в широкой популярности среди техниковедов порой предельно туманных положений синергетики и не менее пространных доводов глобального эволюционизма проступают не только современные общенаучные тенденции. Не случайно как раз это поле аналитики отличается поразительным эклектизмом и произвольным смешением разновременных, разнокачественных концептуальных установок, где идеи В.И. Вернадского дополняют выводы Г. Рополя с проектом «всеобщей технологии», русская религиозная мысль увязывается с постиндустриальными прозрениями, а синергетика надстраивается над старым добрым натурализмом.
За глобальными масштабами репрезентации технической реальности в отечественном дискурсе техники прослеживаются следы чуть ли не идей единства мирового бытия и неких универсальных законов его существования. Феномен техники в России изначально вписывался в единый универсальный механизм исторического развития с характерными претензиями единства сущего, будь то общая прогрессистская схема, соборное всеединство, всемирные коммунистические перспективы или же техносферные горизонты человечества. В советском прошлом единые принципы понимания природы и роли техники были закреплены по всем направлениям, включая ее историю от зарождения первых каменных орудий труда до создания системы рабочих машин или достижений НТР, что превращались в подчиненные элементы общей прогрессистской модели общественного развития. Дальнейшая дискредитация социалистических установок далеко не сразу затронула сам фундамент, на котором они выстраивались и которые все еще ощутимы в большинстве современных исследований.
Не менее ощутимы следы натуралистических, утилитарно-орудийных трактовок, изрядно обветшалых идей служения техники и принципов жесткого онтологи-зированного разграничения естественного и искусственного, а заодно и сопряженные с ними сомнительные конфронтации техники и природы, человека и природы, человека и техники и т. д. Задачи преодоления подобных оппозиций, или, словами А.А. Воронина, «мифа об отчуждении техники» [1, с. 5], все чаще артикулируются в отечественном техноведении и вместе с тем они сохраняют свою силу. Например, одной из самых масштабных картин подобной конфронтации в литературе последних десятилетий стал цикл работ В.А. Кутырева [11; 12].
В мире нестабильностей и неопределенностей, в научном знании, утратившем однозначность, отечественная мысль продолжала и продолжает искать абсолютист-ски-всеобщие константы и находит отдохновение в глобальных образах технической реальности. Однако, провозглашая поливариантность анализа технической реальности и моделей ее описания с признанием принципиальной незавершенности и относительности трактовок, сами трактовки зачастую сводятся к утверждению «последней правды» о техническом праксисе. В результате техницистские гиперболы из весьма условных гипотез превращаются в чуть ли не единственно возможные сценарии, а очередные когнитивные модели подаются в ряду соответствий действительности. Кажется, отечественные техниковеды, так часто цитирующие Х. Ортега-и-Гасета, забывают одно из оп- ределяющих его положений: «единственно ложная перспектива – это та, которая полагает себя единственной».
И все-таки, несмотря на все издержки стихийной реновации и удивительную устойчивость традиций, в российском техноведении наметился ряд новых направлений, которые в перспективе могут привести к качественному пересмотру его теоретико-методологических оснований и выходу, как из порочного круга воспроизведения техницистских постулатов, так и прежних орудийно-натуралистических, либо абсолютистских моделей репрезентации технической реальности. Речь идет, с одной стороны, о движении мысли от фиксируемых эмпирических объектов к рефлексивной позиции, а с другой – о стремлении к унификации теоретико-методологических оснований оценки техники [18, 19, 7, 16, 9, 8]. Подобное смещение исследовательских приоритетов, кроме прочего, дарует надежду на усиление и преодоление или, по крайней мере, сглаживание крайне противоречивой многоукладности российского техноведения, увязнувшего в просвете между традицией и новацией.
Список литературы Между традицией и новацией: о специфике постсоветского техноведения
- Воронин А.А. Миф техники. -М.: Наука, 2004. -198 с.
- Гибелев И.В. Тематизация техники в постклассической философии//Общество. Среда. Развитие. -2011, № 2. -С. 152-155.
- Гнатюк В.И. Лекции о технике, техноценозах и техноэволюции. -Калининград: КВИ ФПС РФ, 1999. -84 с.
- Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосферы. -М.: КРАСАНД, 2010. -286 с.
- Дергачева Е.А. Философия техногенного общества. -М.: Ленанд, 2011. -214 с.
- Дятчин Н.И. История и закономерности развития техники, законы строения, функционирования и развития технических объектов и систем. В 2-х тт. -Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010.
- Елькина Е.Е. Философский анализ феномена и понятия технической реальности//Известия российского государственного университета им. А.И. Герцена. -2009, № 108. -С. 43-50.
- Ефременко Д.В. Введение в оценку техники. -М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. -184 с.
- Иванов Б.И. Философские проблемы технознания. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. -156 с.
- Кудрин Б.И. Введение в технетику/2-е изд., доп. и перераб. -Томск: Изд-во ТГУ, 1993. -552 с.
- Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. -Н. Новгород: «Нижний Новгород», 1994. -200 с.
- Кутырев В.А. Культура и технология: борьба миров. -М.: Прогресс-Традиция, 2001. -238 с.
- Миронов А.В. Технократизм -вектор развития глобализации. -М.: Макс Пресс, 2009. -130 с.
- Никифорова Н.В. Американский культурологический опыт: научное направление технологической истории культуры//Вопросы культурологии. -М.: Панорама, 2013, № 2. -С. 38-42.
- Павленко А.Н. Возможность техники. -СПб.: Алетейя, 2010. -224 с.
- Попкова Н.В. Философия техносферы/2-е изд. -М.: ЛИБРОКОМ, 2009. -344 с.
- Рачков В.П. Техника и ее роль в судьбах человечества. -Свердловск: Упринформпечать, 1991. -328 с.
- Розин В.М. Традиционная и современная технология (философско-методологический анализ). -М.: ИФР РАН, 1998. -216 с.
- Розин В.М. Понятие и современные концепции техники. -М.: ИФ РАН, 2006. -252 с.
- Суркова Л.В. Парадигма техницизма в цивилизационном процессе. -М.: ИФ РАН, 1998. -168 с.
- Тавризян Г.М. Философы ХХ века о технике и технической цивилизации. -М.: РОССПЭН, 2009. -210 с.
- Щуров В.А. Новый технократизм = New technocratism. Феномен техники в контексте духовного производства. -Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 1995. -111 с.
- N. Nikiforova. The Concept of Technology and the Russian Cultural Research Tradition//Technology and Culture. -Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Т. 56. -2015, № 1. -P. 184-203.