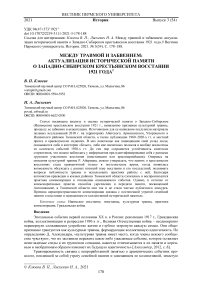Между травмой и забвением: актуализация исторической памяти о Западно-Сибирском крестьянском восстании 1921 года
Автор: Клюева В.П., Лискевич Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Опыт переживания исторической травмы
Статья в выпуске: 3 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу и оценке исторической памяти о Западно-Сибирском (Ишимском) крестьянском восстании 1921 г., выявлению признаков культурной травмы, процессу ее забвения и акцентуации. Источниками для ее написания послужили материалы полевых исследований 2018 г. на территориях Абатского, Армизонского, Упоровского и Ишимского районов Тюменской области, а также публикации 1960-2020-х гг. в местной прессе и краеведческих изданиях. В них повстанцы как защищавшие свой уклад люди, оказываются либо в категории «белых», либо вне оценочных полюсов и вообще исключены из контекста событий 1920-х гг. До сих пор сохраняется устойчивость советских стереотипов, что можно наблюдать у информантов при идентифицировании себя с разными группами участников восстания (повстанцами или красноармейцами). Опираясь на описания культурной травмы Р. Айермана, можно утверждать, что память о крестьянских восстаниях стала травматичной только в постсоветское время, когда появилась возможность обсуждать с разных позиций тему восстания и его последствий, поднимать вопросы публичности травмы и использовать практики работы с ней. Благодаря активистам-краеведам в южных районах Тюменской области сложились и воспроизводятся практики коммеморации в отношении описываемого события. Однако, в отличие от коммеморативных практик способов укрепления и передачи памяти, посвященной Антоновщине, в Тюменской области они так и не стали частью публичного дискурса. Причина нераспространенности коммеморации связана с постепенной утратой семейной памяти о восстании и замещением ее коллективной исторической памятью.
Ишимское восстание, повстанцы, культурная травма, практики коммеморации, гражданская война
Короткий адрес: https://sciup.org/147246379
IDR: 147246379 | УДК: 94(47+57)”1921” | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-3-178-188
Текст научной статьи Между травмой и забвением: актуализация исторической памяти о Западно-Сибирском крестьянском восстании 1921 года
Эпохальные события первой половины XX в. в России: революция 1917 г., Гражданская война, коллективизация и репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война – неоднократно перевернули сложившееся устройство жизни и глубоко затронули каждую семью. Они общепризнанно трактуются как культурные травмы, формирующие коллективную идентичность. По определению Д. Александера, «культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их будущую идентичность» [ Александер , 2012, с. 6].
Травмированность связана с непроработанной памятью о драматических событиях прошлого, повлекшей за собой утрату семейной памяти и замещением ее коллективной, зачастую
не совпадающей с тем, что сохранилось внутри приватного пространства. Одним из таких слабо отрефлексированных событий стало Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. По мнению И. В. Нарского, память о прошлом становилась все короче из-за противопоставления настоящего с недавним прошлым, богатым на события; механизмы забывания включались в ходе государственных усилий по мифологизации прошлого, утрате «предметной конкретности» о событиях вследствие простонародной интерпретации, а главное - из-за разрушения социальных связей по причине миграционных процессов. «Это нарушило коммуникацию с носителями общих воспоминаний о довоенном и дореволюционном прошлом» [ Нарский , 2004, с. 410].
Весь советский период в публичном дискурсе воспроизводился стереотип о расколе рос-сийского/советского общества после революционных событий 1917 г. на два непримиримых лагеря: на красных и белых, на победивших и побежденных, на своих и чужих. И этот же дискурс переносился на сферу частного пространства. Однако полноту повседневной жизни невозможно описать через бинарные схемы, одни и те же люди или члены одной семьи могли осознанно выбирать, на чьей они стороне, и в то же время принимать решение ситуативно или вообще избегать какого-либо выбора. Потомки участников восстаний, если их предки воевали не на «правильной» стороне, старались не вспоминать о них. Но и совсем забыть тоже не получалось.
На рубеже 1920-х гг. в разных частях советской России начались восстания против политики государства. Это были восстания тех социальных групп, которые воспринимались как основа для строительства новой жизни, - рабочих и крестьян (чтобы получить представление о территории восстаний см., напр., [Крестьянский фронт…, 2013]). Восстания не были следствием классовой борьбы зажиточного крестьянства и бедняков внутри деревни, как это преподносилось в советских учебниках по истории. Теодор Шанин отмечает, что, вопреки официальной пропаганде тех лет, нет твердых доказательств, что зажиточные крестьяне сопротивлялись попыткам перераспределить землю. «Несомненно, крестьянские бунты, главным образом в связи с конфискацией зерна, действительно имели место. Например, только за период с июля по ноябрь 1918 года было зарегистрировано 108 крестьянских восстаний». Таким образом, Т. Шанин делает вывод о том, что крупные крестьянские восстания, начиная с 1918 г., не опирались на классовую основу, т.е. причиной бунтов была не борьба между богатыми и бедными крестьянами: «Это было общее восстание крестьян против чрезмерных налогов и плохого снабжения»; «так называемые восстания кулаков, оказываются выступлениями крестьян вообще» [ Шанин, 2019, с. 252, 253].
В рамках широкомасштабного проекта «Сохранение исторической памяти о крестьянских восстаниях 20-х гг. ХХ в. как способ достижения гражданского мира: цифровая и перформативная перспективы», реализованного исследовательской командой при поддержке Фонда президентских грантов, проводились экспедиционные работы на территориях Тюменской и Тамбовской областей (см. подробнее о проекте и его программе на сайте «После бунта: память о Тамбовском и Западно-Сибирском восстаниях», , где развернулись самые крупные восстания - Тамбовское (Антоновщина) и Западно-Сибирское (Ишимское). Наша статья написана по итогам этого проекта и посвящена оценке исторической памяти о ЗападноСибирском крестьянском восстании в сельских районах юга Тюменской области, а также она отвечает на вопрос: является ли сохранившаяся память травматичной?
Полевые исследования проводились в Армизонском, Абатском, Упоровском и Ишимском районах Тюменской области в 2018 г. Выбор населенных пунктов определялся присутствием братских могил жертв колчаковского террора и Гражданской войны на территории населенных пунктов и наличием потенциальных респондентов, выбранных по заранее проработанной выборке (о выборке см. [ Штейнберг , 2014]). Основным методом для сбора материалов было по-луформализованное интервью по заранее составленной программе. Дополнительным методом стало изучение материалов местных СМИ, данных из архивов районных библиотек, Абатского краеведческого музея и личных архивов респондентов. Основной источниковой базой для статьи послужили материалы интервью, полученные в ходе полевых работ в 2018 г., публикаций в местной прессе, мемуарные записи, а также материалы муниципальных, государственных и школьных архивов.
«Привычки сердца» и проблемы идентичности
Одна из установок для эмоционально-оценочного восприятия участников крестьянского восстания – деление на «наших» и «не наших», т.е. идентифицирование действий участников восстания в соответствии с представлениями о «правильном» поведении в тех условиях по защите интересов «своей» группы. Как показывает исторический опыт, «модели мышления и “привычки сердца”, наследуемые от режима коммунистов, действуют много дольше, чем его институционно-организационный каркас» [ Штомпка , 2001, с. 4].
Полученные результаты свидетельствуют, что память о крестьянском восстании сильно размыта. Описание событий, возможно, связанных с восстанием, происходят в контексте рассказов о Гражданской войне, колчаковщине, чехословацком мятеже (подобная темпоральная размытость подробно разобрана [ Кравченко и др., 2020]). При этом язык описания сохранился с советского времени с акцентированием на «красных» и «белых», «наших» и «врагов». Хотя многие информанты были потомками участников восстаний (с обеих сторон), им оказалось сложно дать определение, кем были их предки: кулаками, повстанцами, бандитами, жертвами, карателями, чоновцами, красноармейцами? Они все маркировались как «наши». Поэтому провокационным оказался вопрос: а кто были наши?
Ответ на него показал устойчивость советских стереотипов у респондентов при идентифицировании себя с разными группами участников восстания. Последующие рассуждения и приводимая аргументация отражали затруднения самоидентификации и противоречия социальной идентичности.
– А кто были «наши»?
– Ну, у каждого свое понимание. В истории тоже меняются, историки пересматривают, кто за наших, кто против наших. У большинства наши – это красные, белые – не наши.
– А повстанцы, местное население?
– Затрудняюсь ответить. Бабушка с дедушкой у меня ушли из жизни, пока я была мала, мы с ними не обсуждали. С родителями… Что в школе было заложено, родители эту позицию поддерживали – красные, белые, бандиты. Это теперь, как ознакомишься с другой литературой, понимаешь, что не было наших и не наших, за правду или за неправду. Каждый отстаивал свои интересы, принципы (интервью 1).
«У меня до сих пор все это перед глазами, как над коммунистами издевались, до смерти доводили, выкалывали глаза. И поэтому я жалею коммунистов, я жила в СССР, и для меня это норма. Красные – это красные, это СССР, это наша жизнь, для меня это норма. <…> Я запуталась, кто наши, кто не наши. У меня деда раскулачили, так он за которых был? Я не знаю. А при советской власти я жила. И ничего не знаю. Папка говорил, и соседи говорили, что деда раскулачили. Говорили, ты чего такая деловая, активистка, пионерка, любишь вот эту власть? твоего деда раскулачили, неужели ты понадобишься этой власти? Это я слышала от людей» (интервью 2).
– Тех, кто выступал против советской власти, как называли?
– Бандиты, как их еще? В ту пору не поймешь, что творили.
– То есть те, кого бандитами называли, на самом деле много работали?
– Нет, это не бандиты, это зажиточные. А бандиты – когда гнали коммунистов белые, а кто-то со злости, а кто-то без ума палкой если стукнул – все, ты бандит. Ни за что, короче (интервью 3).
До сих пор непонятно, как рассказывать о событиях тех лет и оценивать своих предков, если красноармейцы и чоновцы теперь стали социально не одобряемыми «карателями», а герои-коммунары – лодырями и пьяницами, тогда как «бандиты» и «эсеро-кулацкие мятежники» оказались героями-повстанцами, воюющими за свою землю и свой дом. Описанный ниже пример свидетельствует, что и официальный язык еще не устоялся. Так, один из авторов статьи в 2017 г. обратила внимание на то, что в историческом парке «Россия – моя история» в Тюмени в пояснительных материалах раздела «Военный коммунизм: Западно-Сибирское восстание», повстанцы маркировались по-разному. Они были названы не только повстанцами и восставшими, но и мятежниками, т.е. понятиями, имеющими разнонаправленные коннотации. Казалось бы, здесь можно увидеть небрежность в подготовке стендов, но это же разночтение показывает, что даже в пределах одного выставочного проекта авторы по-разному расставляют акценты.
В местных сообществах (ограниченных границами района) историческая память о крестьянском восстании поддерживалась в основном публикациями в местных средствах массовой информации и краеведческих изданиях. В 1960-1980-х гг. в них освещался подвиг борцов за советскую власть, в том числе в отношении подавления кулачества/бандитов/карателей. Особо подчеркивалась жестокость повстанцев не только к красноармейцам, коммунистам и комсомольцам, но и к простым жителям - старикам, женщинам, детям. Повстанцы именовались белогвардейцами, бандитами, мародерами, кулаками и их идеологами - эсерами. Борцы за советскую власть, напротив, представали в публикациях как защитники, освободители. Поэтому в краеведческих изданиях постсоветского времени сохраняется тот же язык: «…обоз был обстрелян, и над комсомольцами учинена расправа, им, живым, распороли штыками живот и насыпали зерно»; «мятежники опустошали закрома, крестьяне с тревогой смотрели на их бесчинства» ; «после подавления основных сил восставших, участники восстания укрылись и превратились в бандитские шайки, банды » ( Везель , 2008, с. 1617).
Однако еще в середине 1990-х гг. был предложен новый подход к описанию события: «Хотя и говорят, что “мертвые сраму не имут”, но мертвых надо защищать, даже ради чести и достоинства их детей и внуков, для которых далеко не безразлично, кем были их отцы и деды – бандитами или поборниками за крестьянскую долю , по существу, ставшими без вины виноватыми» ( Лисов , 1997).
Травматична ли память о восстании?
Травма. К настоящему времени в социальных науках уже сложился консенсус о том, что включает в себя понятие «травма» (см. об этом [ Мороз, Суверина, 2014; Аникин, Головашина, 2017]). Говоря о травме, чаще всего имеется в виду культурная травма, оказавшая влияние на сообщество: «Статус травмы придается реальным или воображаемым явлениям не благодаря их фактической вредности или объективной резкости, но благодаря тому, что полагают, что эти явления резко и пагубно повлияли на коллективную идентичность» [ Александер , 2012, с. 17]. Травма конструируется и репрезентируется обществом и должна присутствовать в памяти следующих поколений.
Опираясь на описания культурной травмы Р. Айермана, можно утверждать, что память о крестьянских восстаниях стала травматичной только в постсоветское время: «травматический смысл события должен быть утвержден и воспринят; этот процесс занимает время и требует опосредования и репрезентации» [ Айерман , 2016]. В советские годы для большинства людей крестьянские выступления против советской власти наложились/спрессовались с другими трагическими событиями - начиная с Гражданской войны и заканчивая Великой Отечественной войной, которая по своей значимости перекрывала все, что происходило ранее. На присутствие революции 1917 г. (но не Гражданской войны) и Великой Отечественной войны в качестве структурирующих событий XX в. в поколенческой памяти указывают социальные психологи (см. [ Баранова , Донцов , 2019]). Репрессивные моменты перекрываются темами коллективизации, раскулачивания и более поздними репрессиями середины 1930-х гг. «Обычно, когда едешь по селам и начинаешь расспрашивать, обычно говорят: “Ну, когда был Колчак, тогда...”. А уже зная эту тему, начинаешь уточнять: “А это зимой было или летом?” Так вот если это было летом, так это действительно был Колчак, потому что летом [19]19 года, когда шли бои, отступающая колчаковская армия - тут действительно кое-где у нас были реально... <…> А если говоришь “зимой”, то сразу становится ясно, что речь идет о событиях [19]21 года. То есть в народной памяти, по крайней мере, к [19]90-м годам эти события спрессовались уже в одну картину: “когда Колчак проходил”. Тем более что тут наложилось еще школьное преподавание истории.» (интервью 4).
И только в постсоветское время мы можем говорить о публичности травмы и, соответственно, о способах работы с ней. За счет активистов-краеведов в южных районах Тюменской области сложились практики коммеморации о событии. Однако, в отличие от коммеморативных практик, посвященных Антоновщине, в Тюменской области они так и не стали частью публичного дискурса. «В газете больше 10 лет население становится все более пассивным, отклика нет. Пытались организовать дискуссии, даже деньги за участие в конкурсе, но люди аморфны. Между собой говорят, но не поднимаются публично. Некоторые побаиваются, другие не спешат делиться - не хотят выпендриваться. Откликов мало на статьи. В библиотеке проводят диспуты, там есть группа читателей, которые между собой дискутируют, участвуют в викторинах. Но выйти за пределы группы достаточно сложно» (интервью 5).
Культурная травма тесно связана с двумя, казалось бы, прямо противоположными принципами существования исторического события: акцентуацией на нем или на его забвении. На протяжении всего советского времени мы наблюдаем тренд на забвение Западно-Сибирского крестьянского восстания, с формальным почитанием погибших коммунаров и установленных им памятников. А в постсоветский период происходят его акцентуация и активизация памяти благодаря деятельности отдельных краеведов.
В местных сообществах память о восстании в основном неактуальна. Зачастую воспроизводится так называемая официальная версия события, усвоенная в школе. Частные случаи фокусировки на драматических событиях, гибели родственников, скорее, свидетельствуют о последствиях травм в жизни отдельных людей, но не о коллективной культурной травме. Это не уникальное явление в жизни российского (и не только) общества. Нечто подобное рассматривает эстонская исследовательница А. Аарелайд-Тарт применительно к современному эстонскому обществу [ Аарелайд-Тарт , 2004]. Считаем нужным согласиться с ней в том, что культурная травма не конкретное историческое событие, а «имеющий свои границы дискурс в форме долгих споров о действующих в обществе символах. Этому дискурсу свойственна фиксация биполярности “нападающего” и “жертвы”. И его определяющим признаком является представление одной из сторон “жертвой” определенных, как правило, репрессивных исторических событий в виде саги о страданиях» [Там же, с. 70].
Забвение. «Один из основных механизмов забвения - желание сохранить тайну. В основном восставали крестьяне, пусть была группа кулаков, которые искренне и глубоко ненавидели советскую власть. Но они отряды собирали из крестьян. А если крестьянин воевал за беляков, и потом его убили. То его семья после этого кто? Враги народа. Поэтому лучше молчать, может, советская власть ничего и не заметит. Поэтому и церковные книги так прятали, говорят, что в д. Жиряки до сих пор они закопаны. Поэтому так вымарывалась память, [потому] что кто воевал за белых, за бандитов. И так это все забывалось. За красных еще помнят. Бабушки, дедушки своим внукам, близким ничего не говорили» (интервью 5).
Приведенные выше слова точно характеризуют отношение к памяти о восстании. Когда дело касается травматических событий общего прошлого, мы всегда сталкиваемся именно с их следами, указывающими на вытесненное воспоминание, на наличие латентного периода в коллективной памяти [ Суверина , 2020, с. 116]. Почему память о крестьянском восстании долгое время сохранялась только в контексте истории «борьбы за советскую власть»? Где же затерялись семейные рассказы о предках, которые с оружием в руках защищали свою семью, хозяйство, будущее детей? Сами информанты объясняют собственное незнание разрывом межпоколенных связей, страхом репрессий, нежеланием родственников вспоминать тяжелые события, недостаточным уровнем краеведческой информации в школе. «Нам тогда ничего не рассказывали. Молиться не молились, креститься не крестились, не рассказывали ничего. А потом, когда изменения пошло, это достали, это показали» (интервью 6); «Родители наши баялись про это говорить. Папа, выпивши, еще мог что-то сказать, и то мама на него шикала: ты сейчас наговоришь при ребятишках, и, не дай бог, где-то скажут... Старались выжить» (интервью 7); «В школе об этом не говорили, только белые и красные. Кулацко-эсеровский мятеж незаметно прошел» (интервью 8).
В ходе разговоров о необходимости сохранения или возможности предать забвению память о трагических событиях 1920-х гг. большинство информантов придерживались твердого убеждения о восстановлении и сохранении исторической памяти, передаче этих знаний подрастающему поколению, чтобы в последующем не повторять ошибок прошлого, так как « в Гражданской войне победителей нет », в « войне со своими - героев нет». Но при этом дополняли, что рассказывать нужно не все, по принципу: «говорить правду, ничего кроме правды, но не всю правду».
Возможно, одной из причин отказа от полного освещения событий крестьянского восстания для членов местного сообщества является и то, что фамилии участников (героев, жертв и «палачей») узнаваемы и легко соотносятся с их потомками, что не всегда желательно и приятно для семейных воспоминаний. «...Все семьи описываются. И такого материала очень много читала. Есть фамилии людей, я уже просчитываю - это дедушка такого-то. У нас в районе было очень много этого восстания. Интернет смотрела (том второй, Сибирская Вандея, [19]20-21 гг.), там очень много наших фамилий, каждый второй. Или собрание, или фамилия, или просто что войска перешли. Наша территория была охвачена восстанием очень активно» (интервью 9).
Другой причиной является избегание разговора о жестокости обеих сторон в восстании. Повторим, что для советского периода распространенным явлением было приписывание случаев немотивированной жестокости только повстанцам, в настоящее время чаще встречаются истории о том же самом, но уже со стороны чоновцев и продотрядовцев. А случаи насилия повстанцев обосновываются защитой или реакцией на действия властей. «Да, кто-то говорил, что они были жестокими, но они отвечали на жестокость. То есть даже если они затрагивали момент жестокости банды, они это сами оправдывали тем, что коммунисты-то - они ж ничем не гуманнее были, поэтому приходилось отвечать жестокостью на жестокость» (интервью 10). Но все-таки общим лейтмотивом является попытка если не примирить, то избежать оценочных суждений. « В Гражданской войне нет победителей. Нет правых и виноватых, обе стороны - жертвы » (интервью 4).
При этом, хотя в разговорах с жителями районов почти не встречались сюжеты, связанные с воспоминаниями о конкретных случаях садизма и жестоких расправ, кроме повторения уже опубликованного в СМИ и краеведческой литературе, регулярно подчеркивалось, что братских захоронений на самом деле гораздо больше, чем числится официально: « коммунистов свозили в братские могилы », « а остальных (белых, повстанцев) - на кладбище, хоть бандит, хоть кто… »; « Они позиционировались как братские могилы жертв со стороны советской [власти]. <.> Хотя опять же, в скобочках замечу, по факту - с такими я сталкивался рассказами, говорили: да кто разбирал, когда хоронили? То есть если оставались просто неизвестные… кто его убил? Повстанцы его убили? Или наоборот, уже карательные отряды тех, кто подавлял восстание? » (интервью 4).
Жестокость и насилие, преждевременная смерть здоровых и полных сил людей были ужасающим событием для современников. Захоронения официально признанных героев имели трансперсональную значимость, почитались всем сообществом, их посещения сопровождались ритуализированным поведением. Однако и их места памяти быстро приходили в запустение. Ишимский музеевед, занимавшийся уточнением сведений об объектах культурного наследия регионального значения, в том числе о братских могилах, рассказывал: «.уже к концу 30-х годов большая часть этих братских могил находилась в состоянии запустения. Сначала кропотливо собирались - и об этом свидетельствуют материалы Ишимского архива - сначала кропотливо собирались сведения, требовали с каждого сельсовета списки убитых и умерших, и эти списки хоть как-то помогли нам некоторые могилы идентифицировать, хотя бы кто там может быть похоронен. И как рассказывали <…>, точнее, документы свидетельствуют, что: стоит обелиск, на нем есть табличка, и даже более того - фотография где-то за стеклом. Проходит время, и уже к концу 30-х годов стекла разбиты, фотографии утрачены, списки смыты водой, а в некоторых случаях и сами обелиски находятся в состоянии неудовлетворительном: то есть подгнили, истоптаны коровами или еще каким-то образом. <.> То есть многие обелиски - они ставились в бум 50-х годов, еще в школьных музеях - и уже там написано: ’’Неизвестные”. Такие-то неизвестные похоронены. То есть похоронено столько-то, а из них известно 23 человека только» (интервью 4).
Одновременно с этим коллективная память сохранила информацию о большем количестве погибших, оставшихся без отличительных знаков на месте упокоения. «Я слышала, рассказывали, что были созданы отряды, и погибших белогвардейцев собирали, разрубали на куски и топили в Черном озере. Такая страшная [история]. Это чтобы никто не разговаривал, чтобы никто не говорил про это» (интервью 7). «Причем говорят, что убитых долго не разрешали хоронить. Потом постепенно, видимо, то ли ослабло, то ли махнули на это рукой - стали разбирать, а кого не разобрали – того похоронили неподалеку в Синицынском бору. И место это было отмечено только зарубкой на сосне. <…> А место расстрела – оно вполне официально было отмечено, и в 2006 году был открыт памятник» (интервью 4).
Определенным способом компенсации потери исторической памяти стал тренд современности по составлению родословных. В рамках частных исследований всплывают отдельные сведения и о крестьянах-повстанцах, руководителях повстанческих подразделений и «банд». Но в целом, по мнению наших респондентов, увлеченных краеведческими исследованиями, доступной информации на эту тему не так много, а собирать устные истории сложно, в том числе из-за отсутствия тех, кто помнит.
Одной из главных трудностей в преодолении травмы является недостаток слов, способных запечатлеть эффект от травматического опыта [ Caruth , 1995; 1996; 2014]. На наш взгляд, причина этого прежде всего в отсутствии современного языка описания и смене акцентов в описании событий.
Акцентуация
В советский и постсоветский периоды всплеск интереса к событиям рубежа 1910–1920х гг. приходился на «юбилейные» 1967–1968, 1987–1988, 1996–1997, 2017–2018 гг. В течение этого времени подача материала менялась. Если в 1960–1980-е гг. в опубликованных материалах освещался подвиг борцов за советскую власть, в том числе в отношении подавления кула-чества/бандитов/карателей, то в последние десятилетия мы наблюдаем смену тональности.
Начиная с 1990-х гг., отдельные активисты пытаются поднять память о восстании из небытия. Для этого, начиная с 2001 г., раз в 5 лет в Ишиме проводятся научно-практические конференции на эту тему (последняя проходила в 2016 г., и предполагается юбилейная к столетию события в 2021 г.). В отличие от конференций на эту же тему, проходящих в Тюмени, Новосибирске и других крупных центрах, ишимские мероприятия носят также и просветительский характер, призывая к участию учителей, студентов и школьников. В краеведческом музее Ишима была открыта отдельная экспозиция «1921 год», но просуществовала она только несколько лет. Из-за реорганизации и переезда музея экспозиция была разобрана и более не возобновлялась. Одновременно с конференциями происходила коммеморация события в городском пространстве. «…В 2001-м, <…> был поставлен памятный знак участникам этих событий, участникам трагических событий 1921-го года, так гласила надпись. <…> И это было действительно вместе с открытием конференции. 18 мая 2001-го года вот этот памятный знак землякам, участникам трагических событий 1921-го года, на бывшей Октябрьской площади, вот он был открыт торжественно. <…> А в 2006-м году был другой еще памятник открыт недалеко от деревни Синицыно, так сказать, на уровне района, да, Ишимского, там тоже появился. <…> На месте расстрела, да. <…> Вот там тоже был поставлен памятник. Он и сейчас до сих пор существует. Это было, да, это было на второй день конференции 2006-го года... <…> И в 2011-м году, да, опять же в связи с юбилеем, было 90-летие Западно-Сибирского ишимско-петропавловского восстания, вот как раз по инициативе сотрудников ишимского историкокраеведческого музея появился этот памятник “Ворон”» (интервью 11).
Тогда же была совершена экспедиция в поисках тайного схрона атамана Шевченко (руководителя одного из повстанческих отрядов). Наибольшая активность приходилась на начало 2000-х гг. и достигла своего апогея в 2011 г., когда в Ишиме был постановлен памятник «Черный ворон» с такой же надписью: «Землякам – жертвам трагических событий 1921 г.». «…И в центре города был поставлен памятный знак жертвам, буквально формулирую, “жертвам трагических событий 1921 года”. То есть даже не было слова “восстание”, не было слова “красным-белым”. Просто “жертвам”. Геннадий Петрович Вострецов сделал прекрасный совершенно памятник, образ этого ворона, многозначный образ у него получился. <…> На месте этого ворона 10 лет назад был другой знак. Он был более нейтральный – с той же формулировкой, правда, но более нейтральный: две стелы, объединенные черной полосой, белое и красное. И я даже обращал внимание, начинаешь говорить, [а тебя спрашивают:] “А что, у нас есть такой знак?” То есть люди его не замечали. Орла-то сразу все заметили» (интервью 4).
Однако уже через год, в 2012 г., памятник из центра города был перенесен на территорию городского кладбища, после «неоднократных просьб горожан» (мнения можно увидеть здесь ( Кутырева , 2011;Ты не вейся..., 2011)).
Однако с каждым годом усилия активистов вызывают все меньше отклика в публичном дискурсе. Причина этого кроется как раз в отсутствии исторической памяти о событии. В Ишиме эта память собирается вокруг нескольких участников. «Я скажу так, в основном весь интерес к теме [19]21 года поддерживается... даже не то, что [19]21 года, даже шире – к теме жертв этого периода, поддерживается [несколькими людьми], буквально на пальцах одной руки можно сосчитать» (интервью 4).
Выводы
Угасание исторической памяти о крестьянском восстании во многом связано с разрывом межпоколенной передачи информации, ее фрагментарностью и идеологической односторонностью. Память о неправомерности действий всех участников конфликтов, сопровождающейся жестокостью и несправедливостью, после стабилизации жизни в стране, вероятно, передавалась очень ограниченно либо скрывалась из-за страха перед властями. Повстанцы и, возможно, члены их семей подверглись репрессиям, были арестованы, убиты или вынуждены бежать. В то же время деятельность «борцов за советскую власть» была мифологизирована, а главные действующие персонажи вошли в пантеон местных революционных героев. Поэтому знания о восстании чаще всего получали из официальных источников, но преподносились и интерпретировались факты с одной позиции. Даже в наше время полученные стереотипы меняются с трудом, что отражается в определении «наших» и «врагов» как «красных» и «белых». Собственно, повстанцы как защищавшие свой уклад люди при этом оказываются либо в категории «белых», либо вне оценочных полюсов и вообще вне контекста событий Гражданской войны и Ишимского восстания 1921 г.
Говорить о травматичности памяти о крестьянских восстаниях можно только применительно к постсоветскому периоду, когда появилась возможность говорить о публичности травмы и использовать практики работы с ней. Признаками культурной травмы можно считать сохранение советских стереотипов и шаблонов восприятия участников крестьянского восстания в массовом сознании, что затрудняет самоидентификацию людей и ведет к противоречиям социальной идентичности. Травмированность, вероятно, связана с непроработанной памятью о драматических событиях прошлого, повлекшей за собой утрату семейной памяти и замещение ее коллективной, зачастую не совпадающей с тем, что сохранилось внутри приватного пространства. Наличие непроговоренной, непрожитой семейной тайны объясняется нежеланием поднимать воспоминания об агрессии, неоправданной жестокости, садизме: «память о предках не должна омрачаться кровавыми подробностями» (интервью 5).
В местных сообществах восстановление памяти о трагических событиях 1921 г. неактуально, акцентуация происходит только благодаря деятельности отдельных краеведов. И с каждым годом усилия активистов вызывают все меньше отклика в публичном дискурсе. Вероятно, причина этого кроется как раз в отсутствии исторической памяти о событии.
Список литературы Между травмой и забвением: актуализация исторической памяти о Западно-Сибирском крестьянском восстании 1921 года
- Аарелайд-Тарт А. Теория культурной травмы (опыт Эстонии) // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 63-71. EDN: OWMZHT
- Айерман Р. Культурная травма и коллективная память [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2016. № 5 (141). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/141_nlo_5_2016/article/12171 (дата обращения: 28.11.2019).
- Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования // Вестник Том. гос. ун-та. 2017. № 425. С. 78-84. EDN: YSYYNS
- Баранова В.А., Донцов А.И. Коллективные воспоминания и культурная травма разных поколенческих групп // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10, № 2. С. 29-46. EDN: MNVGQF
- Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: история, репрезентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 59-74. EDN: SGTTCZ