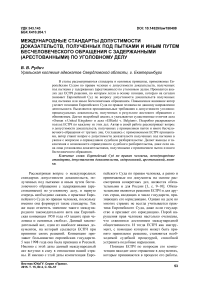Международные стандарты допустимости доказательств, полученных под пытками и иным путем бесчеловеческого обращения с задержанными (арестованными) по уголовному делу
Автор: Рудич Валерий Владимирович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 4 т.15, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются стандарты и основные принципы, применяемые Европейским Судом по правам человек о допустимости доказательств, полученных под пытками у задержанных (арестованных) по уголовным делам. Проводится анализ дел ЕСПЧ решения, по которым легли в основу позиции, которую на сегодня занимает Европейский Суд по вопросу допустимости доказательств полученных под пытками или иным бесчеловечным обращением. Повышенное внимание автор уделяет позициям Европейского Суда по правам человека по данному направлению деятельности. Выделяются принципиальные требования к допустимости уголовно-процессуальных доказательств, полученных в результате жестокого обращения с обвиняемым. Дается подробный анализ, и указываются существенные отличия дела «Osman v.United Kingdom» и дела «ElHaski v. Belgium». Подробно раскрывается подход ЕСПЧ по каждому из этих дел. Автор в своей работе рассматривает вопрос о допустимости доказательств, полученных с применением пыток и иного бесчеловечного обращения от третьих лиц. Соглашаясь с применяемыми ЕСПЧ принципами, автор ставит вопрос о допустимости доказательств полученных под пытками в увязке с вопросом о справедливом судебном разбирательстве. Делает выводы и заключения о возможности справедливого судебного разбирательства, даже если вина лица установлена доказательствами, полученными с применением пыток и иного бесчеловечного обращения.
Европейский суд по правам человека, международные стандарты, допустимость доказательств, задержанный, арестованный, пытки
Короткий адрес: https://sciup.org/147150031
IDR: 147150031 | УДК: 343.143 | DOI: 10.14529/law150408
Текст научной статьи Международные стандарты допустимости доказательств, полученных под пытками и иным путем бесчеловеческого обращения с задержанными (арестованными) по уголовному делу
Рассматривая вопрос о международных стандартах допустимости доказательств, полученных под пытками и иным путем бесчеловечного обращения с задержанными (арестованными) по уголовному делу, в первую очередь необходимо сказать о практике Европейского Суда по правам человека, поскольку именно она формирует такие стандарты. Так же надо отметить значение такого международного законодательного акта как Европейская конвенция 1950 года «О защите прав человека и основных свобод». Данный законодательный акт, один из наиболее важных документов, на который ссылается ЕСПЧ при принятии своих решений. Конвенцию признают большинство европейских государств. 5 мая 1998 года она была признана и Россией. Именно с этой даты данный международный акт вступил в силу в отношении нашей страны. И именно с этой даты компетенция Евро- пейского Суда по правам человека, а равно и принимаемые им документы на основе рассмотрения конкретных дел, являются обязательными и для России [3, с. 9–10]. Обязательными являются решения ЕСПЧ и для других стран, входящих в число государств, признающих его юрисдикцию. Однако на деле во многих странах не всегда учитывается практика Европейского Суда, даже если государство и признает его юрисдикцию. Порой нарушения прав человека настолько очевидны, что становятся достоянием международной общественности. И тогда ЕСПЧ как инструмент, с помощью которого может быть принято правильное решение, становится необходимой судебной процедурой, способной устранить подобные нарушения.
Позиция ЕСПЧ по вопросам его компетенции находит свое отражение в документах, которые принимаются в процессе его работы.
Защита прав человека является одной из главных задач в деятельности Суда. Об этом говорит его судебная практика. Из ее анализа видно, что вопрос о получении доказательств под пытками и применением иного бесчеловечного обращения в ходе досудебной деятельности органов, предназначенных для ведения предварительного расследования, является наиболее проблемным.
Защищая права человека, ЕСПЧ занял достаточно твердую позицию по вопросу использования полученных таким путем доказательств и разработал ряд принципов, запрещающих их применение при рассмотрении уголовных дел. Такая позиция ЕСПЧ не раз подтверждалась в принимаемых данным Судом решениях. С этой точки зрения интересным представляется дело «ElHaski v. Belgium», решение по которому было принято 25 сентября 2012 г. В данном решении было указано, что в случае если в суде может быть допущено использование доказательств, полученных в результате применения пыток, то весь процесс будет несправедливым. Такой позиции ЕСПЧ придерживается даже в том случае, когда такие доказательства не были решающими для принятия решения и осуждения лица (§ 85). Аналогичная позиция была изложена ЕСПЧ по делу «Jalloh v. Germany», «Gäfgen v. Germany» и «Othman (AbuQatada) v. The United Kingdom», «Gäfgen v. Germany».
В этих решениях ЕСПЧ также делает вывод о том, что использование таких доказательств в суде ставит под сомнение справедливость всего судебного разбирательства. Придерживаясь такой позиции, ЕСПЧ в первую очередь ставит вопрос каким способом было получено доказательство? И в зависимости от ответа на этот вопрос принимает решение о возможности применения такого доказательства в суде. Постановлением Большой Палаты Европейского Суда по делу «Осман против Соединенного Королевства» (Osman v. United Kingdom) от 28 октября 1998 г. ЕСПЧ выразил свою позицию по отношению к действиям соответствующих органов, связанным с получением доказательств, которые не должны в своей деятельности переходить рамки установленных гарантий, содержащихся в ст. 5 и 8 Конвенции.
Как уже отмечалось, ЕСПЧ выработал целый ряд принципиальных требований к допустимости уголовно-процессуальных доказательств [4]. Они выражаются в следующих положениях, которые, по мнению ЕСПЧ, должны соблюдаться в странах, признающих юрисдикцию Европейского Суда: 1) признания, полученные с помощью пыток или бесчеловечного обращения, не допускаются в качестве доказательств в ходе уголовного процесса; 2) иные доказательства, полученные в результате пыток, также не допускаются; 3) иные доказательства, полученные в результате бесчеловечного обращения, подлежат исключению в случае, когда будет установлено, что нарушение требований ст. 3 Конвенции оказало влияние на приговор или наказание; 4) данные принципы применяются также в случае, если жертвой жестокого обращения был не сам заявитель, а третье лицо.
Необходимо заметить, что ЕСПЧ очень четко отграничивает такие понятия, как:
– признания, полученные с помощью пыток;
– иные доказательства, полученные в результате пыток;
– иные доказательства, полученные в результате бесчеловечного обращения.
Перечисленные требования распространяются на доказательства, полученные как от самого заявителя, в случае если в отношении близкого ему человека использовались пытки или бесчеловечное отношение и таким образом оказывалось давление на заявителя к даче нужных показаний, так и непосредственно доказательства, полученные от третьего лица, в отношении которого применялись пытки или бесчеловечное отношение, на основе которых обвиняется заявитель.
Придерживаясь названных принципов, ЕСПЧ в своей практике принимает соответствующие решения для создания условий, с помощью которых данные принципы могут быть реализованы. Так, в деле «Osman v. United Kingdom» ЕСПЧ постановил: «раз имеется реальный риск того, что доказательства, полученные под пытками, будут использованы при пересмотре дела», то будут нарушены права, предусмотренные ст. 6 Конвенции, если обвиняемый будет экстрадирован. Необходимо добавить, что по этому делу ЕСПЧ указал: «Он не исключает того, что подобные соображения могут применяться в отношении доказательств, полученных в других случаях жестокого обращения, которые приближаются к пытке». Развивая подход о допустимости доказательств, разработанный в деле «Osman v. United Kingdom», ЕСПЧ сде- лал добавление в деле «ElHaski v. Belgium» и расширил применение принципов недопустимости доказательств, полученных с применением пыток или бесчеловечного обращения к специфическим фактам дела «ElHaski v. Belgium». Специфическим в деле «ElHaski v. Belgium» (вопреки тому, что имело место в деле «Osman v.United Kingdom») является то, что заявитель не представил никаких подтверждений и никаких конкретных фактов того, что третьи лица, чьи письменные показания были использованы против него в ходе судебного разбирательства, были подвергнуты пыткам или иному ненадлежащему обращению. Он лишь утверждал, что существует реальный риск того, что по отношению к лицам, давшим показания против него, было применено бесчеловечное обращение. При этом он даже не уточнял, в чем оно выражалось. В этом большое отличие дела «ElHaski v. Belgium» от дела «Osman v. United Kingdom», где такие факты были установлены. Важно то, что в деле «ElHaski v. Belgium» было лишь озвучено заявителем, что существует реальный риск того, что Абу Хаушер и Аль-Хамашер дали показания против него под пытками. Этого было достаточно, чтобы ЕСПЧ принял такое заявление и установил, что бремя доказывания наличия реальных фактов применения пыток в соответствии с принципам справедливости не может быть возложено на заявителя.
По сути, в деле «ElHaski v. Belgium» ЕСПЧ расширил применение выработанных им принципов, независимо от того, являлось ли использование доказательств, полученных с применением пыток, решающим фактором в осуждении лица или нет (§ 166).
На основе рассмотренной практики можно сказать, что для Европейского Суда основанием возникновения вопроса о допустимости доказательств является наличие фактов или возможных рисков применения пыток или иного бесчеловечного обращения. При этом решение о допустимости или исключении доказательства находится в компетенции самого суда. Наличие разумных оснований того, что показания или другие доказательства были получены под пытками и иным путем бесчеловечного обращения, дает суду основания для вывода о недопустимости доказательств обвинения. В такой ситуации суд должен признать предварительную процедуру получения доказательств несправедливой и признать недопустимыми иные собранные по делу доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Возникает некая связка между допустимостью доказательства и справедливостью судебного разбирательства [5]. При соблюдении в суде права на защиту и состязательности, где суд будет решать вопрос, подлежит данное доказательство исключению или нет с учетом всех необходимых обстоятельств, недопустимость или сомнительная допустимость каких-либо доказательств не означает, что само судебное разбирательство несправедливо.
Передача вопроса о допустимости доказательства на усмотрение суда весьма логична. Такой подход позволяет суду применять как формальный критерий допустимости, так и общепризнанный в мировой юридической практике стандарт справедливости [1, с. 95– 108; 2, с. 29–33]. При этом, по нашему мнению, суд должен учитывать то, что не всякое процессуальное нарушение является существенным и влечет за собой исключение доказательства как недопустимого. Могут возникнуть и такие, которые не представляют угрозы нормальному и эффективному ходу судопроизводства, а также обеспечению порядка достижения его целей и задач. При собирании доказательств возможны процессуальные нарушения, которые могут быть устранены последующим справедливым судебным разбирательством, в котором будет соблюдаться законность и состязательность.
Таким образом, главным вопросом для принятия решения об исключении доказательств является то, получены они с применением пыток либо иного бесчеловечного обращения или нет. Все сомнения могут разрешаться судом с учетом того, насколько справедливым было судебное разбирательство, в процессе которого представлялись и исследовались доказательства по уголовному делу. Такой вывод можно сделать из рассмотренной практики ЕСПЧ, и именно такой подход является международным стандартом по вопросу применения доказательств, полученных с применением пыток и иного бесчеловечного обращения.
Список литературы Международные стандарты допустимости доказательств, полученных под пытками и иным путем бесчеловеческого обращения с задержанными (арестованными) по уголовному делу
- Александров, А. С. К вопросу о допустимости доказательств, полученных стороной обвинения в ходе досудебного производства/А. С. Александров, Д. С. Кучерук//Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности: материалы Всероссийского круглого стола/сост. К. Б. Калиновский. -СПб., 2012. -С. 95-108.
- Гармаев, Ю. П. Устранение сомнений в допустимости доказательств/Ю. П. Гармаев//Законность. -2011. -№ 5. -С. 29-33.
- Де Сильвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г./М. Де Сильвиа.-СПб., 2004. -1072 с.
- Рудич, В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический и прикладной аспекты: дис. … канд. юрид. наук/В. В. Рудич. -М., 2013. -274 с.
- Постановление Европейского Суда от 10 марта 2009 г. по делу «Быков (Bykov) против Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс».