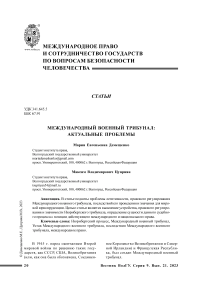Международный военный трибунал: актуальные проблемы
Автор: Демещенко М.Е., Цуприян М.В.
Рубрика: Международное право и сотрудничество государств по вопросам безопасности человечества статьи
Статья в выпуске: 21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье подняты проблемы легитимности, правового регулирования Международного военного трибунала, последствий его проведения и значения для мировой юриспруденции. Целью статьи является выяснение устройства, правового регулирования и значимости Нюрнбергского трибунала, определение сущности данного судебного процесса с позиции действующего международного и национального права.
Нюрнбергский процесс, международный военный трибунал, устав международного военного трибунала, последствия международного военного трибунала, международное право
Короткий адрес: https://sciup.org/149145435
IDR: 149145435 | УДК: 341.645.5
Текст научной статьи Международный военный трибунал: актуальные проблемы
В 1945 г. перед окончанием Второй мировой войны по решению таких государств, как СССР, США, Великобритания (или, как она была обозначена, Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Французская Республика, был создан Международный военный трибунал.
Обозначая историческую роль трибунала, необходимо отметить, что это был прецедент, до того невиданный как в истории юриспруденции, так и в истории человечества.
На нем предполагалось судить главных военных преступников Европы того времени, которые, по сути, являлись руководствами целых государств.
Международному трибуналу предшествовала Лондонская конференция, проходившая с 26 июня по 8 августа 1945 года. На данной конференции собрались представители четырех обозначенных выше государств как раз с целью создания такого трибунала.
По сути это было совещание, предполагавшее создание судебного органа, наделенного властью четырех государств полномочиями осуществлять судопроизводство в отношении граждан других государств. Участники конференции были строго оговорены, протокол не велся [1, с. 75].
По результатам конференции обозначенными сторонами было подписано Соглашение. Обратимся к тексту Соглашения между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Союзного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 года.
В первой же его статье был отдан указ учредить после консультации с Контрольным Советом Международный военный трибунал, чтобы судить на нем международных, то есть тех, чьи преступления не имеют географической привязки, военных преступников [4, с. 63], причем «организация, функции и юрисдикция Трибунала определяются Уставом – приложением к Соглашению» [4, с. 63].
Также в тексте Соглашения было упомянуто, что любое из «Правительств Объединенных Наций может, оповестив дипломатическим путем Правительство Великобритании, присоединиться к Соглашению» [4, с. 63].
Перейдем к анализу текста Устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, который состоит из семи частей. В первой части обозначена и, насколько это возможно, подробно описана организация Трибунала. Помимо этого, также указано, что каждая из сторон-участниц Трибунала обязуется назначить со своей стороны одного члена в состав Трибунала и одного заместителя [5].
Во второй – юрисдикция и принципы действия. Здесь, ст. 6, сразу же обозначается довольно-таки широкий круг преступлений, в отношении лиц, совершивших которые, Трибунал ведет судопроизводство:
«а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий;
-
b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных, или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления;
-
с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет» [5].
В следующей статье оговаривается, что потенциальные подсудимые – это главы государств и чиновники, и что это не является смягчающим обстоятельством.
Таким образом, текст дает нам понять, что юрисдикция Трибунала распространяется и первоочередно направлена на руководство государства. Это косвенно подкрепляется тем, что в ст. 8 смягчающим обстоятель- ством является приказ начальства, то есть к подчиненным Трибунал мог проявить снисхождение.
Следом в этой части регламентируется то, что, по сути, подсудимые являются и должны быть осуждены как члены преступных организаций, то есть подчеркивается преступность не столько отдельных лиц, сколько государственных систем, а каждое такое государство само по себе признается преступной организацией (сообществом). Более того, согласно ст. 10 Устава, этот факт наделяется преюдициальным значением. А уж ст. 10 вместе со ст. 11 Устава в связи с этим наделяют правом «компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон» привлекать к суду и наказанию лицо, принадлежащее к этой организации, и более того даже после того, как такое лицо было осуждено Международным военным трибуналом [5]. Иными словами, мы видим, как нивелируется запрет на повторное осуждение лица за совершение им одного и того же преступления.
В третьей части говорится об обвинителях от каждой из сторон, их действиях в качестве Комитета по расследованию дел и обвинению главных военных преступников, их целях (например, «окончательного определения лиц, подлежащих суду Трибунала») и полномочиях (например, что, возможно, самое главное, они выступают обвинителями в суде, подготавливают обвинительный акт, осуществляют предварительный допрос, расследуют и представляют доказательства и так далее). Таким образом, отдельные лица (хорошо бы это юристы), к которым, исходя из данного документа не предъявлялись какие-то четкие требования (образование, стаж работы, квалификация и пр.), и при этом не обязательно имеющие у себя в государстве статус следователя, прокурора (то есть занимающие эти должности в правоохранительных органах), получали полномочия по ведению расследования, осуществлению функции публичного обвинения [5]. Нельзя не отметить, что про защитника, напротив, в ст. 23 прямо оговорено, что им является либо адвокат, который «имеет право выступать на суде в его родной стране», либо любое иное лицо, «которое будет специально уполномочено на это Трибуналом» [5].
В четвертой части идет речь о процессуальных гарантиях подсудимых, например, о необходимости переводчика для подсудимых как во время их допроса, так и в процессе судебного заседания [5].
В пятой части описываются права и обязанности Трибунала, а также правила судебного заседания.
Трибунал наделен рядом прав, например:
-
1) допрашивать подсудимого;
-
2) вызывать и допрашивать свидетелей;
-
3) требовать предъявить доказательства;
-
4) приводить к присяге свидетелей;
-
5) назначать должностных лиц для осуществления некоторых задач [5].
То есть так же, как при стандартном уголовном судопроизводстве.
Трибунал обозначает приоритет скорости и простоты производства над формальностью. От доказательств по большому счету требуется одно – доказательная сила, а о наличии которой, к слову, судит сам Трибунал [5].
Также здесь определен порядок судебного заседания от оглашения обвинительного акта до приговора.
В шестой части Устава речь идет о приговоре. Приговор является окончательным, мотивированным актом общей воли. Из видов наказаний, которые мог применить Трибунал к подсудимому, прямо назван лишь один – смертная казнь. Удивительно с позиции известных юриспруденции в целом и особенно уголовному праву принципов формальной определенности и законности (формула – «нет наказания без указания на то в законе»), но согласно Уставу, допустимо назначение в принципе любого вида наказания, которое, как указано в названной статье, «Трибунал признает справедливым» [5]. Наряду с этим ст. 28 предусмотрена дополнительная мера – аналог конфискации имущества, добытого преступным путем.
Приговор, помимо этого, приводится в исполнение согласно приказу другого органа – Контрольного Совета, который может смягчить или изменить (но никак не повысить) наказание. То есть опять большая странность, если брать во внимание основополагающий признак приговора, ведь в каждом государстве, в национальной правовой системе это акт, который является обязательным к испол- нению всеми физическими и юридическими лицами на всей территории и не требует для этого издания еще какого-либо дополнительного акта. А здесь мы видим, что для исполнения приговора нужен приказ Контрольного Совета (о котором, собственно, кроме как в этой статье и об этой его функции, в Уставе нет больше и речи), так еще и не определен механизм такого исполнения либо допустимого неисполнения (сроки, пределы и порядок обжалования, процедура и последствия пересмотра дела и т. д.).
Седьмая часть – одна лишь ст. 30 отражает решение вопросов, связанными с расходами [5].
Столь подробный анализ Устава мы считаем необходимым ввиду того, что без этого нельзя говорить о сути и деятельности самого Трибунала.
Несомненно, стоит отметить, что и Устав, и не раз упомянутое выше Соглашение являются действующими актами международного права. По крайней мере, на территории Российской Федерации.
Логично, что акты, созданные для конкретных мероприятий, должны утратить юридическую силу по их прошествии. Здесь можно провести сравнение: например, Федеральный закон, регламентирующий проведение Олимпийских игр 2014 года, будучи привязанным к определенному событию, тоже является действующим, но, возможно, это потому, что таковой содержит в себе нормы, не имеющие отношения к Олимпиаде, а относящиеся к изменениям в иных актах. То есть можно предположить, что и Устав, и Соглашение действуют по причине того, что содержат в себе нормы универсального – не относящегося исключительно к Нюрнбергскому процессу – нормы, как, к примеру, порядок судебного заседания Международного военного трибунала.
Стоит отметить, что, несмотря на давность Нюрнбергского процесса, в связи с которым в истории имеется единственный прецедент создания Международного военного трибунала, различные вопросы, касающиеся этого процесса, являются актуальными до сих пор, и до сих пор ученые-юристы о них спорят.
К примеру, остро стоит вопрос о соотношении юрисдикции Трибунала и суверенитета государства.
«Анализ Устава МВТ показывает, что безусловное признание его юрисдикции практически всегда означает только правовой конфликт с Основным законом государства, но и отказ от применения важнейших принципов Основного закона» [2].
Такой подход нарушает принцип международного права – суверенность государства. Вопрос крайне спорный, но его тоже несколько спорным образом решил представитель на Нюрнбергском процессе со стороны США. Так, прокурор Джексон, заявив, что «настоящим истцом в этом процессе является цивилизация» [2], то есть, по сути, обозначил, что это было не попыткой «искривить» действующую правовую систему, а наведение правосудия от лица человечества.
Можно также попытаться трактовать существование такого процесса, а также Соглашения и Устава, в качестве документов, его регулирующих, как создание некоторого права над правом. Исходя из базовых принципов, все государства равны. Но в этом случае, когда представители одного государства объявляют целые государственные системы преступными организациями, а созданный ими суд распространяет свои полномочия на территорию других государств, по сути нарушается базовый принцип, то, на чем все строилось – суверенитет. Таким образом, можно судить об образовании права, которое способно регулировать и влиять на целые государственные и правовые системы.
Другие теоретики заявляют о важности Нюрнбергского Трибунала как о важности небывалого прецедента в мировом праве, приводя в пример один из эпизодов процесса, получившего название «Суд над судьями» или «Процесс против судей». По сути – продолжают «гнуть линию» насчет возможной неправомерности процесса.
«Корень необычности “Процесса против судей” в том, что одни юристы именем права обвиняли и судили других юристов за деяния, совершенные именем закона» [3], то есть на Нюрнбергском процессе прямо было обозначено превосходство советской, американской, британской и французской правовых систем над итальянской, японской и германской.
Исходя из общей логики, можно заключить, что все было сделано верно, ведь иначе нельзя было бы осудить и покарать лиц, совершавших военные преступления катастрофического масштаба.
Однако, исходя из логики юридической, мы натыкаемся на противоречия. Одна суверенная система судит другую, равную себе, суверенную систему, то есть ставит себя выше. Это как нарушение законов физики. Тем самым нельзя не признать неуместным вопрос о легитимности данного процесса.
Обозначенные выше аргументы позволяют нам судить о создании того, что мы в тексте нашей статьи уже назвали «правом над правом». Это право сложно называть даже международным правом. Это право может позволить себе изменять и игнорировать то, на чем строится правовая система, для достижения целей, достигнуть которых мировое право не в состоянии.
В завершение отметим, что сущность прошедшего Нюрнбергского трибунала с позиции права ввиду его специфичности до сих пор не раскрыта, значение такового для юриспруденции определяется по-разному. Это необычайный пример ситуации, показавшей гибкость мирового права, и породившей юридические вопросы, ответы на которые ищут до сих пор.
Но на ряд вопросов уже тогда был дан ответ. Был дан ответ, что если национальное уголовное право не предусматривает преступления, то это не освобождает лицо от ответственности перед международным судом. Если обвиняемым является глава государства или член высшего чиновничьего аппарата, его статус не является поводом для исключения ответственности. Действия преступника по приказу начальника тоже не отменяют его ответственности, если у него была возможность выбора. И, может быть, с учетом главных принципов права: каждый обвиняемый на мировом суде имеет право на справедливое и беспристрастное рассмотрение его дела.
Список литературы Международный военный трибунал: актуальные проблемы
- Нюрнбергский процесс: сб. материалов: в 8 т. - М.: Юрид. лит., 1987. - Т. 1. - 688 с.
- Олейник, Н. А. К вопросу о соотношении государственного суверенитета и юрисдикции международного военного трибунала / Н. А. Олейник // Мниж. - 2021. - № 10-2 (112). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-gosudarstvennogo-suvereniteta-i-yurisdiktsii-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala. EDN: PUXYLA
- Синченко, Г. Ч. Возрождая интерес к Нюрнбергским военным трибуналам. Вступительная статья к публикации извлечений из материалов суда над нацистскими судьями 1947 года / Г. Ч. Синченко // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2023. - № 1 (88). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdaya-interes-k-nyurnbergskim-voennym-tribunalam-vstupitelnaya-statya-k-publikatsii-izvlecheniy-iz-materialov-suda-nad. EDN: GIZQZF
- Соглашение между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси. Лондон, 8 августа 1945 г. // Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: сб. материалов: в 7 т. - М.: Госюриздат, 1957. - Т. 1. - С. 63-64.
- Устав Международного военного трибунала. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901737883?ysclid=lqic8svqcm404005039.