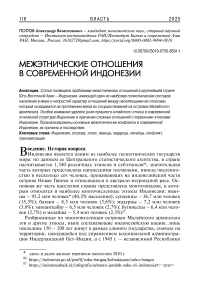Межэтнические отношения в современной Индонезии
Автор: Попов А.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Межнациональный мир: Россия и зарубежный опыт
Статья в выпуске: S1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам межэтнических отношений в крупнейшей стране Юго-Восточной Азии - Индонезии, имеющей один из наиболее полиэтнических составов населения в мире и непростой характер отношений между населяющими ее этносами, который складывался на протяжении веков их сосуществования на островах Малайского архипелага. Особое внимание уделено роли пришлого китайского этноса в современной этнической структуре Индонезии и причинам сложных отношений с коренными этносами Индонезии. Проанализированы основные межэтнические конфликты в современной Индонезии, их причины и последствия.
Индонезия, острова, этнос, яванцы, мадурцы, китайцы, конфликт, трансмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170209129
IDR: 170209129 | DOI: 10.56700/t5019-8750-8691-f
Текст научной статьи Межэтнические отношения в современной Индонезии
В ведение. История вопроса
Индонезия является одним из наиболее полиэтнических государств мира: по данным ее Центрального статистического агентства, в стране насчитывается 1,340 различных этносов и субэтносов86, значительная часть которых представлена папуасскими племенами, иногда численностью в несколько сот человек, проживающих на индонезийской части острова Новая Гвинея и относящихся к австрало-негроидной расе. Ос- новная же часть населения страны представлена монголоидами, к которым относятся и наиболее многочисленные этносы Индонезии: яванцы – 95,2 млн человек* (40,2% населения); сунданцы – 36,7 млн человек (15,5%); батаки – 8,5 млн человек (3,6%); мадурцы – 7,2 млн человек (3,0%); минангкабау – 6,5 млн человек (2,7%); бугинесцы – 6,4 млн человек (2,7%) и малайцы – 5,4 млн человек (2,3%)87.
Разбросанные по многочисленным островам Малайского архипелага эти и другие этносы, ныне составляющие индонезийскую нацию, лишь последние 150 – 200 лет живут в рамках единого государства, сначала на территории, находящейся под управлением колониальной администрации Нидерландской Ост-Индии, а с 1945 г. – независимой Республики
* здесь и далее данные переписи населения 2010 г.
Индонезия. В более ранний исторический период формирование и развитие местных этносов было связано с существованием на территории современной Индонезии различных государственных образований, как крупных – Шривиджая, Маджапахит, Матарам, власть которых распространялась на значительную часть Малайского архипелага, так и небольших, относительно независимых княжеств и султанатов. Веками складывающиеся отношения населяющих их этносов, несомненно, оказали влияние на формирование у них определенной исторической памяти, которая оказывает влияние на межэтнические отношения и в современной Индонезии.
Достаточно вспомнить вероломное убийство в 1357 г. в местечке Бубат, на Восточной Яве, правителя княжества Сунда, Лингабуана, и его приближенных войсками восточнояванского государства Маджапахит под руководством мапатиха (главного министра) Гаджах Мада, пытавшегося покорить Сунду. Планировавшаяся изначально как союз двух яванских государств свадьба правителя Маджапахита, Хаям Вурука, и сунданской принцессы Диах Питалока превратилась для сунданцев в «бубатскую кровавую баню», которая на века осталась в исторической памяти сунданского этноса как проявление вероломного характера, присущего, как многие считают в Индонезии, яванцам, которых и сейчас нередко обвиняют в двуличности. Как бы то ни было, со времен этих событий внутри сунданского этноса бытует правило, что нельзя вступать в брак с яванцами, хотя в современных условиях оно нередко нарушается88. Взаимное неприятие двух основных этносов Явы, да и всей Индонезии, проявлялось и в том, что до самого последнего времени на Центральной и Восточной Яве не было топонимов, связанных с важнейшими в истории Сунды именами Силиванги, легендарных правителей княжества, и Пад-жаджаран, его столицы. Соотвественно, на Западной Яве отсутствовали топонимы, связанные с именами Гаджах Мада, Хаям Вурук и Маджа-пахит89.
Ранее успел «обидеть» Гаджах Мада и другое независимое государство на территории современной Индонезии, а именно первый в ее истории султанат Самудра Пасей, находившийся на севере Суматры, в районе Локсумаве нынешней провинции Аче. Султанат возник в 1267 г. по инициативе местного правителя Мараха Силу, который, приняв ислам, стал султаном под именем Малик аль-Салех. Султанат, расположенный на побережье Малаккского пролива, успешно контролировал морскую торговлю в этом районе и имел обширные зарубежные связи, в том числе с Маджапахитом, вплоть до того, что принцесса последнего, Раден Галу Гемеренчанг, должна была стать женой сына султана Ахмада Малик аз-За- хира, правившего с 1349 г. Прибыв, однако, в султанат, принцесса узнала, что ее жених убит по приказу собственного отца, который на ней решил жениться сам. Бедная девушка не выдержала горя и тоже покончила с собой, что стало основанием для Маджапахита атаковать султанат90. Следует при этом отметить, что еще в 1336 г., став главным министром Маджа-пахита, Гаджах Мада поклялся поставить под его контроль значительную часть архипелага. В самом же Аче эта военная операция Маджапахита из поколения в поколение передавалась в народных сказаниях и легендах, отнюдь не способствуя хорошим отношениям ачинцев и яванцев.
Китайский этнос на островах архипелага
Однако наибольшая степень межэтнического напряжения имела место в отношениях различных этносов, населяющих острова Малайского архипелага, с китайскими иммигрантами, которые на протяжении всей современной истории регулярно прибывали из континентального Китая, преимущественно из провинций Фудзянь и Гуандун. Причиной этого напряжения, помимо культурных и языковых различий, была и экономическая успешность китайских иммигрантов, которые за счет своего трудолюбия и дисциплины, а зачастую и деловой смекалки довольно быстро начинали превосходить местных жителей по уровню благосостояния. При этом в ряде районов архипелага китайские переселенцы не смешивались с местным населением, жили и работали обособленно в рамках этнических общин закрытого типа, именуемых «конгси», которые, например, на Калимантане даже сформировали свою конфедерацию, имеющую собственное управление. С 1740 г. правители султанатов Мемпава и Самбас на Западном Калимантане активно привлекали китайских иммигрантов для добычи на их землях золота, что в конечном итоге привело к формированию в регионе целой китайской колонии, жившей по своим законам.
Бытовая, культурная, да и религиозная обособленность китайских общин отнюдь не способствовала гармоничному развитию их отношений с местными этносами, в случаях же тесного экономического взаимодействия китайские переселенцы, особенно в условиях сельской местности, как правило, быстро брали верх над местным населением. Особенно это сказывалось в условиях голландского колониального правления, когда китайский торговый капитал успешно действовал на разных уровнях местной экономики, начиная от мелких деревенских лавочек и сельских рисорушек до исполнения посреднической функции между крестьянами и колониальными властями, вплоть до делегирования последними китайскому капиталу функции сбора податей. В результате повсеместно на селение рассматривало китайцев как часть колониального аппарата Нидерландов с соответствующим к ним отношением, поэтому, когда в 1825 г. на Центральной Яве началось фактически антиколониальное восстание под предводительством принца Дипонегоро, недовольство восставших было направлено в том числе против китайцев. 23 сентября 1825 г. конный отряд яванцев под предводительством дочери султана Хаменгку Бувоно I, Раден Аю Юдакусума, ворвался в городок Нгави, на границе Центральной и Восточной Явы, где проживало большое количество китайцев, и безжалостно истребил последних, не пощадив ни женщин, ни детей. Эта резня вызвала и обратную негативную реакцию по отношению к яванцам у китайского населения Явы91.
Ранее, в 1740 г., уже в Батавии, главном городе Ост-Индской компании на Яве, произошла «китайская резня», связанная с попытками голландцев ограничить приток в город китайских кули. Притеснения и поборы со стороны Компании вызвали ответную реакцию китайцев, фактически организовавших вооруженное сопротивление, впрочем, быстро подавленное Компанией, которая в дальнейшем выплачивала премиальные местным жителям за каждого убитого китайца.
Колониальные власти и в дальнейшем способствовали росту противоречий между местными этносами и китайскими иммигрантами, введя, например, в начале ХХ века разделение всего населения колонии на три категории: европейцев, выходцев из стран Востока (арабов, китайцев, индийцев и проч.) и местных (pribumi), причем каждой категории граждан предписывалось жить в определенных кварталах или поселениях. При этом для второй категории было введено ограничение на передвижение, и, например, китайцы должны были иметь пропуска (Passenstelse) для проезда из одного китайского селения в другое.
Следует также отметить, что возникшие в этот период различные националистические политические партии и общественные организации, в частности, «Сарекат ислам», объединяющая представителей мусульманского торгового капитала, не допускали в свои ряды местных китайцев и в значительной мере имели антикитайскую направленность. Созданное в это же время «Движение яванских китайцев» также преследовало интересы сугубо местной китайской диаспоры, пытаясь добиться отмены введенной голландцами фактически системы апартеида. Уже в этот период формировалась неравноправность положения китайцев, как, впрочем, и других представителей вышеупомянутой второй категории граждан, что в дальнейшем, в частности, нашло свое выражение в Конституции Республики Индонезия 1945 г., VI-я статья которой гласит, что президентом страны может быть только представитель коренного населения.
Такая постановка вопроса автоматически превращала китайцев, а также выходцев из других стран Востока, в людей второго сорта, не имеющих равных с другими индонезийцами политических прав. «Подливала
масла в огонь» и КНР, которая после своего образования 1 октября 1949 г. объявила о возможности предоставления гражданства всем китайцам, проживающим за ее пределами. Собственно, в Индонезии и в тот, и в последующие периоды выделяли китайцев Tionghoa Totok, которые родились в Китае, были слабо интегрированы в социально-культурную среду индонезийского общества и продолжали ориентироваться на родственные и культурные связи с континентальным Китаем. Им противопоставлялась другая категория местных китайцев – Tionghoa Peranakan, которые уже родились на островах архипелага, в том числе от смешанных браков, сами состояли в браке с представителями коренных этносов и были интегрированы в местную культурно-религиозную среду, порой даже являясь приверженцами господствующей религии – ислама.
Уже в условиях независимости, в 1954 г., индонезийские китайцы создали свою массовую организацию «Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia – Консультативный совет гражданства Индонезии/Baperki – Баперки», в которую вошли представители самых различных политических взглядов практически из всех районов Индонезии. Баперки активно занималась отстаиванием интересов китайского меньшинства и развитием системы образовательных учреждений, включая создание собственных университетов в Джакарте и Сурабае. В этот же период правительство Индонезии осуществляет программу развития национального предпринимательства «Бентенг», которая предполагала предоставление дешевых кредитов и лицензий на проведение экспортно-импортных операций предпринимателям из числа коренных этносов Индонезии. Последние, однако, не имели ни нужных связей, ни соответствующих навыков и фактически продавали свое участие в этой программе китайским бизнесменам, что породило феномен создания совместных предприятий типа «Али – Баба», в которых, пожалуй, впервые смыкались экономические интересы национального и китайского капитала. В целом же на разных уровнях индонезийской экономики наблюдалось засилье китайского капитала, что породило в стране так называемое «Движение Ассаата», а именно, попытку национальных предпринимателей за счет протекционистских мер правительства уравновесить их роль в национальной экономике. С такой инициативой в марте 1956 г. на Национальном экономическом конгрессе Индонезии выступил бывший Исполняющий обязанности президента Республики Индонезия в составе Объединенной Республики Индонезия (федеративного образования, существовавшего с период 27.12.1949 – 15.08.1950) Ассаат92. Хотя вскоре Ассаат перешел в оппозицию к президенту Сукарно и даже примкнул к сепаратистскому движению на Суматре, его идеи были использованы руководством Индонезии, и в 1959 г. китайских предпринимателей серьезно ограничили, запретив им Постановлением правительства №10 проживание во внутренних районах страны и сельской местности, и осуществление там розничной торговли. Вместе с тем, поскольку, в соответствие с вышеупомянутым постановлением, китайским предпринимателям было разрешено работать лишь в административных центрах провинций и кабупатенов (областей), основная их часть передислоцировалась в такие города, что привело к еще большему засилью в них китайского капитала.
В этой связи следует отметить, что деятельность последних в индонезийской деревне была источником постоянного напряжения с местным коренным населением, которое традиционно рассматривало китайских торговцев и как часть системы колониального угнетения, и как своих непосредственных эксплуататоров. Пользуясь бедственным положением сельского населения, китайские торговцы, держащие в деревнях свои лавочки, предоставляли крестьянам товары в кредит под высокий процент или в счет будущего урожая сельхозпродукции. Применялась, в частности, система ijon, предполагающая скупку урожая риса на корню, как правило, гораздо дешевле, чем стоил бы уже собранный урожай. Именно китайцы держали в деревнях рисорушки, диктуя крестьянам цены за поставляемый ими рис. Сложившаяся таким образом система социального неравенства, когда пришлый, этнически чуждый, «неверный», с точки зрения господствующего в индонезийской деревне ислама, китайский капитал рос и богател, а коренное население, представленное малоземельным крестьянством, порой едва сводило концы с концами, создавала предпосылки для социального взрыва на этнической почве. Аналогичная ситуация была и в городах, где значительная часть торговых и промышленных предприятий принадлежала богатым предприимчивым китайцам, на которых работали представители коренных этносов.
Военный переворот 1965 – 1967 гг.
На фоне антиимпериалистической риторики лидера Индонезии, президента Сукарно, в стране в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ века происходило масштабное развитие госсектора на базе национализированных голландских предприятий, которые оказывались под управлением неопытных, а зачастую и коррумпированных, чиновников, в значительной мере из числа военных, вес которых существенно вырос после подавления сепаратистских мятежей на Суматре и Сулавеси, а затем и присоединения Западного Ириана. Одновременно в стране происходило усиление роли Коммунистической Партии Индонезии (ПКИ), ставшей второй по численности в Азии после маоистской КПК, которая стала активно влиять и на ПКИ, и на руководство Индонезии, что серьезно волновало и США, и сориентированный на них армейский генералитет, опасавшихся прихода коммунистов к власти. Большой «ошибкой» Сукарно было и его твердое нежелание допускать международный капитал к эксплуатации природных богатств Индонезии. Как результат – чудовищная по своим последствиям провокация по организации 30 сентября
1965 г. «государственного переворота», якобы срежиссированного ПКИ, и последовавший за этим действительный госпереворот во главе с генералом Сухарто, в ходе которого силами военных и мусульман-фанатиков была практически полностью физически уничтожена Компартия. По признанию генерала Сарво Эди, который был одной из ключевых фигур по проведению антикоммунистичеких чисток, за несколько лет в стране было уничтожено до 3 млн человек, членов ПКИ и ее массовых органи-заций93.
Среди тех, кто подвергся репрессиям было много и местных китайцев, которые ассоциировались и с Компартией, и с коммунистическим Китаем. Пришедший к власти в результате госпереворота 1965 – 1967 гг. генерал Сухарто не только ввел полный запрет на деятельность Компартии, но и своей Инструкцией №14 – 1967 г. запретил проведение мероприятий, связанных c традициями, верованиями и культурой Китая без разрешения правительства, что касалось, например, празднования Китайского нового года. Местным китайцам было также предписано поменять свои китайские имена на индонезийские и принять меры по полной ассимиляции, против чего ранее выступала организация Баперки, также запрещенная Сухарто.
Взяв курс на ассимиляцию местных китайцев, Сухарто одновременно предоставил им и максимум свободы для предпринимательской деятельности в интересах развития в Индонезии рыночной экономики. Именно при так называемом Новом порядке президента Сухарто, в значительной мере благодаря его политической и силовой поддержке, быстрое развитие получили крупные, многоотраслевые китайские предприятия, именуемые в народе «конгломераты», владельцы которых самым тесным образом были связаны с верхушкой правящего режима. Сам Сухарто имел близкие отношения с предпринимателем Лим Сиу Льёнгом, ставшим впоследствии Судоно Салимом, основателем «Салим Груп», с которым он был знаком еще с периода войны за независимость, а затем поддерживал деловые связи в бытность командующим дивизией «Дипонегоро» во второй половине 50-х гг. Именно благодаря связям с Сухарто, Судоно Салим сумел создать обширную бизнес-империю, которая охватывала плантационное хозяйство и автомобильный бизнес, крупнейший частный банк «Банк Сентрал Эйша» и мощный продовольственный холдинг «Индофуд», а всего к началу Азиатского финансового кризиса 1997 г. в нее входило более 500 компаний с 200 тыс. занятых. Бытует мнение, что Сухарто лично придумал индонезийское имя своему китайскому другу: «Су» – по-явански означает «превосходный, наилучший» (поэтому многие яванские имена начинаются именно с «Су» – Сукарно, Сухарто, Сумарно и т.д.), «Доно» созвучно индонезийскому термину «Дана», т.е.
«денежные средства»; «Са» – на яванском означает «один»94, «Лим» – от китайского имени «Лим Сиу Льёнг»95.
Сухарто, поощрявший китайский капитал и заинтересованный в политической и социальной стабильности в целях экономического развития, не допускал открытого проявления антикитайских настроений, а тем более погромов, однако полностью их избежать не удавалась, и порой серьезные антикитайские выступления возникали на почве пустяковых межличностных конфликтов. Такие беспорядки возникли, например, в результате малозначительного транспортного инцидента в Суракарте, на Центральной Яве, 20 ноября 1980 г., а затем перекинулись и на другие города провинции, достигнув своего максимума 25 ноября в г. Семаранге, ее столице. Также ранее в Суракарте, в 1972 г., возникли антикитайские погромы, связанные с убийством велорикши (бечака) местным жителем арабского происхождения. Громили, конечно, и арабские магазины, но, как всегда, досталось и китайцам96.
Трансмиграция и мадурский фактор на Калимантане
Если отношения коренных этносов с этническими китайцами режиму «Нового порядка» долгое время удавалось в целом контролировать, то в ряде районов, которые были вовлечены в программу трансмиграции, предполагающей переселение в них жителей из регионов с избыточном населением, отношения местных этносов и прибывающих переселенцев другой этнической принадлежности далеко не всегда складывались гладко. В частности, это касалось районов Западного и Центрального Калимантана, куда еще в 30-е гг. ХХ-го века по программе администрации Нидерландской Ост-Индии стали прибывать первые переселенцы с о. Мадура. В этой связи следует отметить, что выходцы с Мадуры примерно с середины XVIII века активно привлекались Нидерландской Ост-Индской компанией к службе в колониальных войсках. Достаточно сказать, что в конце XVIII века из 4,5 тыс. солдат гарнизона Батавии 3,3 тыс. человек составляли мадурцы, которые в основном несли службу под командованием офицеров из числа мадурских же аристократов97. И на протяжении всей дальнейшей истории своего пребывания на островах Малайского архипелага голландцы регулярно использовали мадурцев в своих войсках, в том числе и в карательных целях. В период 1831 – 1929 гг. существовал даже особый Мадурский корпус, который контролировался непосред- ственно губернатором Восточной Явы и был фактически создан одновременно с Королевской армией Нидерландской Ост-Индии (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger – KNIL/КНИЛ). В его состав входило три подразделения в соответствии с основными районами острова: Суменеп, Памекасан и Бангкалан, во главе которых стояли мадурские офицеры. В период нахождения на своем острове мадурским солдатам разрешалось жить дома с семьями и заниматься сельским хозяйством. Поскольку законы Нидерландов запрещали использовать голландских военнообязанных в колониальных войсках, КНИЛ преимущественно состояла из наемников, европейских и местных, среди которых было также много выходцев с Молуккских островов (амбонцев) и Северного Сулавеси (минахасцев). Эти два этноса, в отличие от мадурцев, исповедовали христианство, мадурцы же привлекали командование КНИЛ своим воинственным и жестким характером, который, возможно, сформировался в условиях тяжелого, жаркого и засушливого климата Мадуры, где крестьянский труд требовал твердости духа и огромных физических усилий. Мадурский корпус был, например, активно задействован в боевых действиях КНИЛ на Бали в 1864 г. и в длительной войне в Аче в 1873 – 1903 гг.98. Даже, пытаясь восстановить колониальные порядки в Индонезии после 2-й Мировой войны, голландцы в июле 1947 г. задействовали мадурцев для подавления антиколониального сопротивления на самой Мадуре и захвата этого острова99.
Сотрудничество с колониальными властями, мягко говоря, не способствовало гармоничным отношениям мадурцев с другими этносами Малайского архипелага, хотя все это было в прошлом и в современной Индонезии большого значения не имеет. Вместе с тем является фактом, что на бытовом уровне мадурцев в Индонезии не любят, хотя говорить об этом открыто не принято. Возможно, связано это с некоторыми особенностями характера многих мадурцев, которые, как считают корреспонденты другой этнической принадлежности, всегда стремятся к доминированию над окружающими, порой ведут себя грубо и агрессивно, что выглядит особенным диссонансом в отношении всегда вежливых и утонченных яванцев. Кроме того, и это уже является неоспоримым фактом, у мадурцев присутствует гипертрофированное чувство собственного достоинства, которое проявляется в неспособности и нежелании спокойно относиться, например, к бытовой перепалке, в которой могут прозвучать обидные для представителя этого этноса слова. Если мадурец чувствует себя задетым или оскорбленным, что может быть связано также с унижением его жены или детей, а также с имущественным или земельным спором, он без промедления вызывает обидчика на дуэль, в соответствии с бытующей на острове традицией «чарок», получая при этом благословление своей семьи. В чароке соперники используют традиционные мадурские большие ножи с загнутыми концами «челурит», которые используются и в сельскохозяйственных работах, и зачастую эта поножовщина заканчивается смертью одного из дуэлянтов.
Если на Восточной Яве, где мадурцы массово расселились за пределами своего острова, к особенностям их характера более-менее привыкли, то на Калимантане, куда и в независимый период было направлено несколько волн переселенцев с Мадуры, отношения трансмигрантов с местным населением, представленным различными племенами даяков, периодически накалялись до предела. В значительной мере дело, конечно, касалось экономики, поскольку привыкшие к дисциплине и ежедневному напряженному труду мадурцы быстро подминали местных даяков экономически, захватывая нередко и адатные земли последних. Играла свою роль и разница в культуре, и религиозной принадлежности глубоко верующих мусульман-мадурцев и христианизированных даяков, которым были не чужды и анимистические верования. В результате первые крупные проявления межэтнических противоречий мадурцев и даяков стали проявляться даже в условиях, по сути, военного режима Сухарто, который, буквально утопив страну в крови в 1965 – 1967 гг., казалось, повсеместно держит ситуацию под контролем.
Так, только на Западном Калимантане в период с 1967 по 1977 г. было зафиксировано несколько убийств местных даяков мадурцами, которые были недовольны, что им не удовлетворили запрос на выделение земельного участка или родители-даяки не отпустили дочку на свидание и т.п.100. Правда, даяки уже были научены горьким опытом, что мадурцы в любой конфликтной ситуации тут же хватаются за нож и старались вести себя с ними аккуратней, что, однако, не уберегло от большого конфликта в 1979 г., случившегося вновь по малозначительному поводу. 8 ноября мадурский переселенец Асикин бин Асмудин, 45 лет от роду, резал траву на корм скотине на краю рисового поля в селении Сендоренг кечамата-на (района) Самалантан, в кабупатене (области) Самбас. Проезжавший мимо хозяин поля, 40-летний даяк по имени Сидик, заметив, что мадурец «залез» и на его посевы, сделал тому замечание, что Асикином было воспринято как личное оскорбление, достойное отмщения, в связи с чем он вскорости явился в дом к даяку и зарезал того своим челуритом. Весть об этом мгновенно разнеслась по окрестным деревням и начались массовые столкновения между мадурцами и даяками, в ходе которых было убито 20 человек и сожжено несколько десятков домов. Лишь на 5-й день столкновений, 12 ноября, в район прибыл командующий XII военным округом «Танджунгпура», охватывающим Западный и Центральный Калимантан, бригадный генерал М.Саниф, который постарался представить конфликт как бытовой, а не межэтнический, а 13 ноября в Самалантан был направлен 641-й батальон полицейского спецназа «Черные медве-
ди», и конфликт удалось погасить. В начале же 1980 г. в Самалантане была даже воздвигнута стела в знак примирения мадурцев и даяков101.
Необходимо также отметить, что при достижении перемирия в 1979 г. старейшины мадурцев дали обещания, что последние не будут убивать даяков, которых они, очевидно, рассматривали как людей примитивных, только что вышедших из джунглей и стоящих на более низких ступенях культурного и экономического развития. В последующие годы имели место, однако, отдельные стычки и одиночные убийства с обеих сторон, а большое же противостояние произошло в конце 1996 г., когда появились первые признаки ослабления власти «Нового порядка», и произошло первое открытое противостояние оппозиции, возглавляемой дочерью Сукарно, Мегавати Сукарнопутри, с режимом президента Сухарто в июле 1996 г. в Джакарте, что не могло не отразиться и на региональном уровне. Одним из слабых мест вновь оказался Западный Калимантан, где 29 декабря в селении Сангау Ледо, расположенным в кабупатене Бенгкаванг, в 220 км от столицы провинции г. Понтианак, на музыкальном празднике из-за девушки повздорила даякская и мадурская молодежь, в результате чего двое даякских юношей оказались с ножевыми ранениями и были отправлены в больницу в вышеупомянутом кечаматане Самалантан. При этом в даякской среде распространились слухи, что юноши убиты, и на следующий день даяки напали на мадурское селение Сангау Ледо, и около 800 мадурцев было вынуждено укрыться на базе ВВС в соседнем районе Сингкаванг. 1 января 1997 г. даяки окружили уже саму базу ВВС, но туда в спешном порядке из г. Бандунга был переброшен спецназ, и на самолетах мадурцев эвакуировали в г. Понтианак. Между тем столкновения в различных районах Западного Калимантана продолжались еще несколько недель, и в результате с обеих сторон погибло несколько сот человек и более 1 тыс. домов было сожжено. Причиной этих столкновений был, конечно, не только мадурский темперамент, но, очевидно, и общая неудовлетворенность в даякской среде условиями бытия.
Следует отметить, что с утверждением режима «Нового порядка» в местном административном аппарате заметно снизилась роль даякской аристократии, из числа которой ранее назначался и местный губернатор. При Сухарто же число даяков в местных органах исполнительной и законодательной власти исчислялось буквально единицами, несоразмерно их доли в населении Западного Калимантана, которая превышала 60%. Так, например, в кабупатене Сангау в 1970 г. из 20 кечаматанов даяки возглавляли 9, в 1978 г. – уже 6, а в 1998 г. – только 4. И такая картина наблюдалась повсеместно102. В экономическом плане, помимо давления со стороны мадурцев, даяков, несомненно, напрягало и масштабное вторжение на их исконные земли крупных компаний, которые изначально занимались лесозаготовкой, а затем перешли к разбивке плантаций под масличную пальму, а также к добыче бокситов, основные месторождения которых сосредоточены именно на Западном Калимантане. Вся эта деятельность сопровождалась массовой вырубкой лесов, которые традиционно служили для даяков естественной средой обитания и ведения хозяйственной деятельности: помимо охоты и собирательства даяки занимались и подсечно-огневым земледелием, постепенно освобождая от леса небольшие участки для своих посевов. В результате же вырубки лесов крупным капиталом доля территории провинции, покрытой лесом, сократилась с 66,5% в 1968 г. до 46,1% – в 1997 г. При этом ни плантационные, ни лесозаготовительные или горнодобычные проекты не давали местным даякам сколь-нибудь ощутимых возможностей для долговременного заработка, поскольку для них нанимались в основном работники из других регионов. Так, в лесозаготовке местные даяки составляли только 1,7% всей занятой рабочей силы103.
Огромное значение в межэтническом напряжении в районах трансмиграции играл, конечно, земельный вопрос, поскольку, наделяя семьи трансмигрантов бесплатно землей, правительство, как правило, забирало ее у местных жителей, обещая выплатить компенсацию, что сделать часто «забывали» или же размер компенсации был смехотворным. Так, в том же Сангау Ледо в 1986 г. местные жители, земли которых были переоформлены на трансмигрантов, компенсации вообще не получили104. Даяки также были недовольны, что на их землях нелегально работают «черные старатели», добывающие золото, в связи с чем в районе Самалантан в марте 1996 г. происходили стычки даяков с пришлыми нелегалами, которые, очевидно, не хотели делиться своей прибылью, находясь под покровительством местных военных и полиции.
Кризис 1997 – 1998 гг. и крах режима Сухарто
Начавшийся в 1997 г. Азиатский финансовый кризис нанес огромный ущерб индонезийской экономике, чрезвычайно обострив и политическую ситуацию внутри страны, и межэтнические отношения, особенно в тех регионах, где они были накалены и ранее, однако, как это уже неоднократно бывало в Индонезии на изломах исторического процесса, главной жертвой этого напряжения в обществе стали этнические китайцы. В результате просчетов экономической политики правительства Сухарто, а также действий МВФ и американской администрации, стремившихся «свалить» ставшего им неугодным президента Индонезии, курс национальной валюты «рухнул» с 5,400 рупий/долл. в конце 1997 г. до 15,400 ру-пий/долл. 23 января 1998 г.105. В стране закрывалось множество предприятий, быстро росла безработица, нарастали инфляционные процессы, что усугублялось неурожаем риса, вызванным засухой. В момент обедневшие различные слои населения в своих экономических неурядицах винили, естественно, правящий режим, по своей сути диктаторский, от которого в Индонезии уже просто устали.
Главным выразителем протестных настроений стало студенчество, и повсеместно в стране проходили студенческие демонстрации, во время которых отчетливо звучали требования не только политических и экономических реформ, но и отставки президента Сухарто. Во время одной из таких демонстраций в Джакарте 12 мая 1998 г. от выстрелов неизвестных снайперов погибло четверо студентов Университета «Трисакти», что спровоцировало массовые беспорядки в столице Индонезии, продолжавшиеся 13 – 14 мая, в ходе которых, только по официальным данным, погибло около 500 человек и было разрушено или сожжено более 4 тыс. зданий, в которых, в том числе, располагались магазины, рестораны и банки, преимущественно принадлежавшие местным китайцам. Именно против последних были направлены действия погромщиков в лице столичных люмпенов и откровенно криминальных элементов. При этом китайцев не только убивали и грабили, но и насиловали китайских женщин, что осталось безнаказанно, поскольку в течение двух дней армия и полиция практически бездействовали в условиях отсутствия в стране президента, который находился в зарубежной поездке. Аналогичные антикитайские погромы прошли и в Суракарте (Соло), где они начались 14 мая с массовых демонстраций студентов в память о трагедии в Унивенрситете «Трисакти» в Джакарте. Беспорядки в Соло продолжались несколько дней и привели к гибели 33 человек и уничтожению десятков торговых центров, магазинов и банков106. Антикитайские погромы проходили и в других городах Индонезии, в том числе в главном экономическом центре Северной Суматры, г. Медан, где традиционно была сильна китайская община. Майские выступления студентов, начавшиеся в условиях экономических неурядиц как выражение народного протеста против режима Сухарто, в конечном итоге приобрели характер антикитайских погромов, будучи использованными криминальными элементами и определенными силами внутри индонезийского общества, которые были заинтересованы в общей дестабилизации политической обстановки в стране.
Вернувшийся в Джакарту 15 мая президент Сухарто столкнулся с полной потерей поддержки не только в обществе, но и в правящей верхушке, что заставило его 21 мая уйти в отставку. Сменивший его вице-президент Б.Ю. Хабиби, получивший в молодости в Западной Германии высшее образование авиаконструктора и, очевидно, впитавший идеи западной демократии, достаточно быстро провел целый ряд демократических преобразований индонезийского общества, введя, в частности, свободу прес- сы и политических партий, что фактически ознаменовало собой начало строительства демократической Индонезии.
Межэтнические конфликты в период демократических преобразований
По иронии судьбы именно дальнейшие действия президента Хабиби в значительной мере привели к новому межэтническому конфликту в самой Джакарте, который фактически перерос в самый ожесточенный межрелигиозный конфликт в истории современной Индонезии. В ноябре 1998 г. Хабиби стремился заручиться поддержкой высшего законодательного органа Индонезии – Народного Консультативного Конгресса для подтверждения легитимности своего положения в качестве президента страны, против чего выступали студенты, рассматривающие Хабиби в качестве ставленника Сухарто, не способного реально бороться с коррупцией и засильем армии в политической жизни Индонезии. Для противодействия студентам в помощь армии 9 ноября 1998 г. были сформированы полувоенные формирования Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (ПАМ Свакарса) – отряды обеспечения общественной безопасности, члены которых были вооружены заостренными бамбуковыми палками. 12 ноября в различных локациях города, примыкающих к парламентскому комплексу в районе Сенаян, произошли ожесточенные столкновения студентов и примкнувшим к ним сочувствующих с военными, полицией и отрядами ПАМ Свакарса, в ходе которых погибло 17 человек107. Среди погибших оказалось и несколько членов ПАМ Свакарса, основу которого составляли криминальные элементы с Молуккских островов, конкурирующие со своими соплеменниками (амбонцами)-христианами в Джакарте в игорном и охранном бизнесе. Рядовых членов ПАМ Свакарса убедили, что студенты являются коммунистами, поэтому амбонцы-мусульмане были убеждены, что воюют с кафирами, поэтому, потеряв товарищей, они решили мстить христианам, и уже 22 ноября в районе Кетапанг, в Центральной Джакарте, разгорелся новый конфликт с участием криминальных амбонцев обоих вероисповеданий, в который оказались втянуты мусульмане различной этнической принадлежности из других районов Джакарты, разгоряченные известием о якобы сожженной амбонца-ми-христианами мечети в Кетапанге108.
Здесь следует отметить, что в отношении жителей Молуккских островов, которых в Индонезии принято называть «амбонцами», по имени главного города этого архипелага, у многих этносов страны присутствовали определенные негативные сентименты, связанные с особым положением амбонцев в период колониального прошлого, когда преимущественно христианское население этого региона выделялось голландскими властями в плане возможности получения образования, работы в колониальной администрации и участия амбонцев в КНИЛ. Правда, в последней число амбонцев в 1916 г. составляло 4 тыс. человек при общей численности колониальной армии в 30,4 тыс. человек, тогда как яванцев в ней было 17,9 тыс. человек109. Особые связи амбонцев с колонизаторами подтверждались и сепаратистским движением «Республики Южным Молукк», которое активно проявляло себя в период 1950 – 1964 гг. Сами амбонцы и в колониальный период, и уже после достижения Индонезией независимости нередко подчеркивали свое превосходство перед другими этносами, что не могло не вызывать соответствующих ответных чувств.
В результате же беспорядков в Джакарте 22 – 23 ноября 1998 г. было убито еще 13 человек, разрушено и сожжено 11 церквей и множество другой недвижимости, после чего местные власти решили выслать всех амбонских криминальных авторитетов обратно на Молукки, тем более что близилось Рождество, а у мусульман главный их праздник – Идуль Фитри, который в 1999 г. приходился на 19 января. Вернувшиеся же на Молукки амбонские авторитеты перенесли на родную землю свои криминальные разборки, переросшие уже в полноценное межрелигиозное противостояние, которое продолжалось вплоть до февраля 2002 г. и унесло жизни до 9 тыс. человек110. В этот межрелигиозный конфликт на Мо-лукках оказались втянуты и мусульмане прочих этносов, которые массово прибывали на архипелаг для защиты своих единоверцев.
Малайско-мадурский конфликт
Если на Молукках в главный мусульманский праздник Идуль Фитри в 1999 г. ожесточенные столкновения разворачивались на межрелигиозной почве, то на Западном Калимантане, в кабупатене Самбас, в этот день повздорили единоверцы – 300 мадурцев из деревни Сари Макмур напали на малайскую деревню Парит Сетия, стремясь отомстить за своего соплеменника, который ранее попался на попытке воровства мотоцикла и был избит малайцами. В результате двое малайцев и один даяк были убиты. Надо сказать, что к этому времени отношения малайского населения, которое веками проживало на Западном Калимантане, и пришлыми мадурцами серьезно испортились. Прибывая на Калимантан в значительной мере по собственной инициативе, а не в рамках официальной программы трансмиграции, которая предполагает бесплатное наделение земельными участками, мадурцы изначально работали на землях местных малайцев, включая плантации мандаринов, выращиванием которых занимались десятки тысяч малайских семей. Однако, как отмечают местные исследователи, на определенном этапе мадурские работники стали
«отжимать» земельные участки у малайцев, которые, видимо, в силу особенностей своего характера, нередко мирились с таким положением дел и бросали свою землю. По данным местных властей, мадурцы, ничего в Самбасе изначально не имевшие, к 1999 г. в той или иной мере владели в кабупатене 6,7 тыс. га земли. Аналогичная ситуация складывалась и в лесных приграничных с Малайзией районах, где малайцы традиционно занимались лесозаготовкой и откуда их также стали вытеснять мадурцы. Последние постепенно просачивались и в административный аппарат на деревенском уровне, что заставляло многих малайцев покидать родные места. Резко для них ухудшилась и ситуация с продажей мандаринов, поскольку власти провинции предписали осуществлять их реализацию исключительно через компанию «ПТ. Бимантара Читра Мандири», что привело к падению закупочных цен и ухудшению общей экономической ситуации для местного малайского населения111. Все это происходило на фоне падения режима Сухарто и неизбежного ослабления государственного контроля в центре и на местах. Нападение же мадурцев на праздник Идуль Фитри, очевидно, переполнило чашу терпения малайского населения, и в различных местах Самбаса атакам подверглись уже мадурские поселения, причем совместно с малайцами действовали и даяки. Вполне вероятно, что местных малайцев охватил коллективный «амок», поскольку в этом, казалось, локальном конфликте погибло 1189 человек, и местные власти, чтобы избежать еще больших жертв, эвакуировали 58,5 тыс. мадурцев в г. Понтианак, столицу Западного Калимантана112.
Конфликт на Центральном Калимантане
Аналогичным образом складывались отношения мадурцев с местными даяками и на Центральном Калимантане, где к 2000 г. трансмигранты составляли уже более 20% населения провинции. Основные причины разгоревшегося здесь в начале 2001 г. межэтнического конфликта имели, конечно, экономический характер, что периодически подогревалось актами насилия со стороны мадурцев в отношении даяков и их женщин, а непосредственным поводом стало очередное убийство даяка, произошедшее на почве игорного конфликта 17 декабря 2000 г. в деревне Керенг Панги кабупатена Котаварингин Тимур, которое вызвало ответные действия даяков в г. Сампит, административном центре кабупатена. 17 февраля 2001 г. мадурцы полностью взяли г. Сампит под свой контроль, однако уже 18 февраля многочисленные отряды даяков из близлежащих районов по реке Ментая проникли в город в районе Бааманг, где были сосредоточены основные массивы мадурского жилья, и начали истребление мадурцев. Ожесточение даяков против мадурцев было столь велико, что в их среде возродилась, казалось, уже забытая традиция «Ngayau», или охоты за головами, которая предполагала, что даякский воин для обретения силы своего врага должен отрубить ему голову. Еще в 1894 г. различные племена даяков на Калимантане заключили соглашение об отказе от охоты за головами в своей среде, но в ХХI веке даяки вновь о ней вспомнили, очевидно, с целью окончательной победы над мадурцами. По официальным данным, всего в этом конфликте погибло более 500 человек, из которых не менее 100 было обезглавлено, и вдоль дорог стояли длинные шесты с насаженными на них головами мадурцев. В результате более 100 тыс. мадурских трансмигрантов было вынуждено покинуть Ка-лимантан113.
Помимо культурно-психологических особенностей мадурского этноса, главной причиной межэтнических столкновений на Калимантане являлась, несомненно, политика режима Сухарто по освоению природных богатств этого острова, не учитывающая интересов его коренного населения – даяков. Обитающие в значительной мере во внутренних районах Калимантана и в своей повседневной жизни тесно связанные с его лесными богатствами даяки неожиданно для себя обнаружили, что привычная для них среда обитания, леса, являются собственностью государства, которое, в соответствии с Законом №5 – 1967 г. «Об основных принципах лесного хозяйства», стало щедро раздавать лесные концессии близким верхушке режима компаниям. На Калимантане стала бурно развиваться лесозаготовка, которая приносила огромные доходы концессионерам, но мало что давало экономике самого региона, даяки же вообще были не у дел, поскольку лесозаготовительные предприятия предпочитали завозить более подготовленную рабочую силу извне. Одновременно нещадно уничтожалась их естественная среда обитания: если в 1950 г. площадь лесов на индонезийской части острова составляла 51,4 млн га при общей площади земельных угодий в 54,9 млн га, то в 1985 г. площадь лесов сократилась до 39,9 млн га, а в 1997 г. – до 31,5 млн га114. Конкретно на Западном Калимантане в середине 90-х гг. прошлого века из общей площади лесов в 7,1 млн га 2,6 млн га подверглось серьезной вырубке, а 0,5 млн га было вырублено полностью; на Центральном же Калимантане ситуация была еще хуже: при общей площади лесов в 11,1 млн га 8,4 млн га было деградировано из-за вырубки, а 2,1 млн га – вырублено полностью115.
Помимо, собственно, лесозаготовки, с начала 80-х гг. ХХ века большие массивы леса вырубались под разбивку плантаций масличной пальмы: в период 1982 – 1999 гг. на эти цели было использовано по всей Индонезии 4,1 млн га лесных массивов. Хотя уже в тот период пальмовое масло стало приносить Индонезии большие доходы, на Калимантане даяки пользы от плантационных хозяйств не получали, поскольку для работы на плантациях в массовом порядке завозились трансмигранты, которым также выделялись дополнительные участки, из расчета 2-3 га на семью, на которых они, в частности, выращивали саженцы масличной пальмы. Для обустройства поселений трансмигрантов также использовались лесные массивы, и на конец 90-х гг. на эти цели «ушло» 2,0 млн га лесных угодий, в т.ч. на Западном Калимантане – 43,4 тыс. га и на Центральном Калимантане – 133,5 тыс. га116. Естественной среде обитания даяков огромный урон наносили и лесные пожары, которые нередко устраивали сами плантационные компании, заинтересованные в покупке дополнительных земель у местных жителей. Стоимость земельных участков, оказавшихся в зоне лесных пожаров, естественно, снижалась. Только в период с 1997 по 1998 г. от пожаров на Калимантане пострадало более 3,0 млн га лесов117.
Излишне говорить, что местная полиция и армейские части, которые либо сами занимались лесозаготовкой через свои коммерческие структуры, либо «крышевали» крупные компании, ни в коей мере не защищали интересы даяков, протесты которых силовые структуры жестко подавляли. Все это в конечном итоге вело к дальнейшей маргинализации даякских племен и обострению отношений и с властными структурами, где они практически представлены не были, и с крупными компаниями, которые вторгались на их территорию и разрушали их среду обитания, и с трансмигрантами, которые, очевидно, рассматривали даяков как людей 2-го сорта, стоящих на более низкой ступени цивилизационного развития, что в конечном итоге и объясняет ожесточенность межэтнического противостояния на Калимантане.
Конфликт в провинции Аче
В период после падения режима Сухарто обострилась ситуация и в провинции Аче, на севере Суматры, где с 1976 г. сепаратистское «Движение за независимый Аче» (Gerakan Aceh Meredeka – GAM/ГАМ) вело борьбу за отделение от Индонезии. Хотя Движение носило преимущественно политический характер, в нем присутствовал и фактор межэтнического противостояния, поскольку зародилось оно на фоне недовольства ачин-цев распределением экономических благ, получаемых от эксплуатации природных богатств Аче. В 1971 г. американская компания «Мобил Ойл» обнаружила крупное месторождение природного газа близ селения Арун, в кабупатене Северный Аче, однако его эксплуатация не принесла ожидаемой пользы местному населению, а основные дивиденды получал правящий режим Сухарто и американский капитал. Основатель ГАМ – Хасан ди Тиро, являвшийся правнуком героя национально-осво- бодительного движения Аче против голландского колониализма Тунгку Чика ди Тиро, называл действия правительства Сухарто в Аче «яванским неоколониализмом» и выступал также против трансмиграции яванских крестьян в Аче. Для борьбы с ГАМ, сохранения Аче в составе Индонезии и продолжения эксплуатации ее природных ресурсов режим Сухарто ввел на территорию провинции крупные воинские подразделения, которые были вынуждены охранять и яванских трансмигрантов, также становившихся целью ачехских партизан. С 1989 г. Аче был объявлен районом военной операции (Daerah Operasi Militer – DOM/ДОМ), и от рук военных погибли тысячи ачинцев. Пришедший на смену Сухарто «демократ» Хабиби вознамерился вывести войска из Аче, но это лишь усилило ГАМ, и в 1999 г. численность его вооруженных формирований достигла 30 тыс. человек. Ситуация в Аче настолько накалилась, что ставшая в 2001 г. президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри, сама боровшаяся с режимом Сухарто, 19 мая 2003 г. была вынуждена объявить в Аче режим военного положения, после чего примерно за полгода военными было убито около 3 тыс. членов ГАМ118.*
Конфликт в Посо
В конце 1998 г. разгорелся межрелигиозный конфликт между различными этносами, населяющими кабупатен Посо в провинции Центральный Сулавеси. В период голландской колонизации коренные этносы Посо – памона, лоре, мори, напу, кулави и др., благодаря миссионерской деятельности священников были христианизированы, и большинство стало протестантами, однако уже в период независимости в результате трансмиграции в этот район было переселено много мусульман с Явы, Ломбока, Южного Сулавеси и Горонтало, и к концу 90-х гг. ХХ века мусульмане составляли уже более 60% населения кабупатена. Как и в ряде других районов Индонезии, в Посо трансмигранты оказались более успешны в экономическом плане, что вызывало раздражение со стороны коренного населения, а в 1997 – 1998 гг. в условиях жесточайшего финансово-экономического кризиса в Индонезии уровень жизни населения повсеместно резко снизился, что еще больше усиливало напряжение в отношениях этих групп населения. Существовало серьезное напряжение и между чиновниками местных властных структур, представляющих обе религии, в борьбе за контроль над данным районом, которая еще больше обострилась в результате падения режима Сухарто. Конфликт
118 же двух сторон начался, казалось бы, в священный для обеих сторон момент, а именно 24 декабря 1998 г., когда у мусульман еще продолжался месяц Рамадан. Стычка двух молодых людей под воздействием спиртного привела к массовым дракам, предположительно изначально между па-монами и бугинесцами, что в условиях снижения контроля со стороны силовых структур привело к полноценному разрастанию конфликта на межрелигиозной почве с подключением к нему единоверцев из других районов Сулавеси. В результате, за три года конфликта, который удалось завершить лишь 20 декабря 2001 г. подписанием мирной декларации двух сторон в городке Малино, на Южном Сулавеси, с обеих сторон 577 убитых, сотни раненых и около 8 тыс. разрушенных жилых домов119.
Период нормализации
На фоне межэтнических столкновений на Калимантане, межрелигиозных – на Молуккских островах и в Посо, а также боевых действий в Аче ситуация с положением этнических китайцев после погромов 1998 г. постепенно нормализовалась. Огромный вклад в уравнение прав китайского меньшинства Индонезии внес 4-й президент страны, мусульманский интеллектуал, председатель исламской Партии Возрождения Нации Абдуррахман Вахид (Гус Дур), который своим Решением №6 от 17.01.2000 г. отменил сухартовскую Инструкцию 1967 г., которая лишала этнических китайцев возможности проведения мероприятий, связанных со своими традиционными верованиями и обычаями, а уже через год, 19.01.2001 г., министр по делам религий в правительстве Гус Дура утвердил Китайский Новый год (Имлек) в качестве национального выходного дня, и одновременно конфуцианство было признано одной из Официальных религий Индонезии, наряду с исламом, католицизмом, протестантизмом, индуизмом и буддизмом120. Интересно, что сам Гус Дур, являвшийся внуком основателя крупнейшей в Индонезии мусульманской организации «Нах-длатул Улама» Хашима Ашари, связывал свою родословную с китаянкой, исповедовавшей ислам, Деви Ким, из государства Чампа, которая была подарена правителю империи Маджапахит, Бравиджайя V (1468 – 1478 гг.). Родившийся у них сын Тан Энг Хианг, получивший впоследствии имя Раден Патах, стал первым султаном государства Демак и способствовал распространению ислама на Яве121.
Период президентства Сусило Бамбанга Юдойоно (2004 – 2014 гг.) в плане межэтнических конфликтов, к счастью, можно назвать «периодом застоя». Благодаря укреплению внутриполитической стабильности, благоприятной внешней конъюнктуры и стабильному притоку иностранного капитала экономика страны развивалась высокими темпами, на уровне 5% в год, что улучшало экономическое положение различных слоев полиэтнического и поликонфессионального общества Индонезии и, в конечном итоге, снижало остроту проблем, возникающих в отношениях между этносами. В этом же направлении, очевидно, работало и развитие демократического процесса, в ходе которого был отлажен выборный механизм, вплоть до проведения в 2004 г. прямых выборов президента. Хотя сами выборы оставались далеки от идеальной процедуры народного волеизъявления и их результаты во многом зависели от финансовых возможностей того или иного кандидата, уже в ходе многочисленных предвыборных кампаний наружу выплескивалась внутренняя энергия масс, которая прежде, в условиях военного режима, была зажата и могла найти выход в межэтническом амоке.
Возможно, поэтому единственный серьезный межэтнический конфликт, случившийся при С.Б. Юдойоно, завершился быстро и с обещанием противоборствующих сторон в дальнейшем «жить дружно». Связанный также с проблемами трансмиграции данный конфликт возник в провинции Лампунг, на юге Суматры, куда по программе трансмиграции были переселены балийцы, построившие в кабупатене Южный Лампунг селения Балинапал, Балиагунг и Балинурага. Вечером 27 октября 2012 г. группа молодых балийцев из Балинурага на мотоциклах не поделила дорогу с двумя лампунгскими девушками из соседнего селения Агом, также проезжавшими на мотоцикле. «Оказание помощи» упавшим девушкам последними было воспринято как сексуальное домогательство, что вызвало гнев их односельчан, которые в количестве нескольких десятков человек прибыли в Балинурага для разборок, но получили отпор. На следующий день балийское селение атаковало уже несколько десятков тысяч местных, и в столкновениях, которые продолжались и 29 октября, погибло 14 человек и сотни домов было сожжено. 23 ноября конфликтующие стороны подписали Декларацию о мире, которая предполагала обоюдный отказ от юридических последствий данного инцидента, с чем была согласна и местная полиция, а также закрепляла обязательства сторон в дальнейшем избегать конфликтных ситуаций и крепить мир и сотрудничество в Южном Лампунге122.
В последующий период, в течение двух президентских сроков Джоко Видодо (2014 – 2024 гг.) и с началом президентства Прабово Субьянто, положительная тенденция в межэтнических отношениях Индонезии сохранялась, исключая территорию западной части острова Новая Гвинея, которая вошла в состав Индонезии лишь в 1963 г. Эта часть Индонезии, на которую в настоящее время приходится около 22% ее территории и 2% ее населения, изначально была заселена многочисленными папуасскими племенами, которые относятся к австрало-негроидной расе, тогда как основная часть индонезийцев является монголоидами. Фактически насильное включение папуасских территорий в состав Индонезии не могло не вызвать напряжения между народами, отличными не только в расовом отношении, но и стоящими на совершенно различных уровнях цивилизационного развития. К моменту включения в состав Индонезии часть папуасских племен жила в крайне изолированных и труднодоступных районах острова, без малейшего представления об элементарных благах цивилизации, а каннибализм был естественной частью их бытия. Приходится, к сожалению, констатировать, что определенная часть населения Индонезии, предшествующие поколения которого еще совсем недавно по историческим меркам подвергались унижению и дискриминации по расовому признаку со стороны голландских колонизаторов, подобным образом относилось и относится к представителям папуасских народов, что происходит и на бытовом уровне, и в сфере экономики, и в сфере образования, что, в конечном итоге, стимулирует сепаратистские настроения в папуасской среде. Впрочем, межрасовые отношения в Индонезии является темой отдельного исследования, а в заключение данной темы хотелось бы отметить следующее:
-
1. В основе проблем межэтнических отношений в современной Индонезии лежат вопросы экономики, динамика которой в целом определяет характер отношений индонезийских этносов. Существующие проблемы значительным образом сглаживаются в условиях стабильного экономического развития и резко обостряются в условиях кризисных явлений. Немалое значение в межэтнических отношениях в современной Индонезии имеют и определенные культурно-психологические особенности отдельных этносов.
-
2. Особое место в этнической структуре Индонезии занимает китайский этнос, представители которого, прибывая на острова Малайского архипелага различными волнами миграции, веками живут на территории страны и играют важнейшую роль в ее экономике. В силу особенностей своего социокультурного развития, трудолюбия и «заточенности» на достижение экономического результата китайцы в Индонезии, как правило, добиваются быстрого экономического результата и начинают доминировать над коренными этносами в том или ином регионе страны, что со стороны последних вызывает чувство социального недовольства. Накладывает свой отпечаток на отношения в Индонезии к китайцам и историческая память, в которой на протяжении многих десятилетий они ассоциировались с пособниками голландских колонизаторов. Существенным моментом в этих отношениях является и слабая интегрированность этнических китайцев в индонезийское общество, что, в частности, выражалось в стремлении изолированного проживания китайских общин, отказе на современном этапе от смешанных браков и нежелании общения с коренными этносами за пределами экономических
-
3. Большое влияние на характер межэтнических отношений в различных регионах Индонезии оказывают те или иные программы центрального правительства, в частности, реализация в прошлом программы трансмиграции, т.е. перемещения части безземельных и малоземельных крестьян из перенаселенных районов Явы и Бали на «Внешние острова» – Суматру, Калимантан, Сулавеси, а позднее и Новую Гвинею, где наличие свободных земель при незначительной численности местного населения позволяло бесплатно наделять трансмигрантов земельными участками. Позитивная изначально идея, к сожалению, реализовывалась, как правило, без учета интересов местного населения, что в конечном итоге привело к ее сворачиванию и способствовало возникновению целого ряда межэтнических конфликтов в районах трансмиграции с многочисленными человеческими жертвами.
отношений. Аналогичные тенденции проявляются в настоящее время и в случае китайских капиталовложений в экономику Индонезии, которые сопровождаются притоком китайской рабочей силы. В результате, несмотря на положительные тенденции последних лет, в индонезийском обществе сохраняется «особое» отношение к китайскому этносу, которое проявляется и в большой политике: несмотря на огромную роль местного китайского капитала в экономике Индонезии, во властные структуры китайцев допускают крайне редко.
Список литературы Межэтнические отношения в современной Индонезии
- Д.Дж.Е.Холл. История Юго-Восточной Азии. - М., 1958.
- Yahya Aryanto Putro, Hamdan Tri Atmaja, Ibnu Sodiq. Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. - Journal of Indonesian History 6 (1) (2017).
- Regime Change and Etnic Politics in Indonesia. Leiden, 2012.
- А.В. Попов. Бахаруддин Юсуф Хабиби. - Многоликая элита Востока. Том 2. М., 2020, стр.376 - 468.
- Eka Jaya PU. KONFLIK ETNIS SAMBAS TAHUN 1999 ARAH DISINTEGRASI BANGSA. *Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, 2001.
- M. Junus Melalatoa. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jilid A - K. Jakarta, 1995.
- M. Junus Melalatoa. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jilid L - Z. Jakarta, 1995.
- Suku - Suku Pedalaman Indonesia. Depok, 2018.
- Ensiklopedia Suku, Seni dan Budaya Nasional. Jilid 1 - 6. Jakarta, 2012.