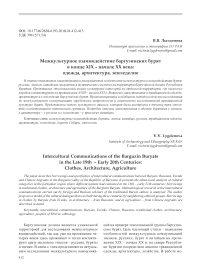Межкультурное взаимодействие баргузинских бурят в конце XIX - начале XX века: одежда, архитектура, земледелие
Автор: Лыгденова В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются заимствования и раскрываются особенности межкультурного взаимодействия бурят, русских, эвенков, китайских мигрантов и политических ссыльных на территории Баргузинской долины Республики Бурятии. Представлен этнолокальный анализ культурных категорий на отдельной территории, где несколько народов контактируют на протяжении XVIII- начала XXIв. Выявлены заимствования в традиционной одежде, архитектуре и в земледелии баргузинских бурят. Проанализированы и обобщены методологические исследования по межкультурным коммуникациям зарубежных антропологов и современных исследователей традиционной культуры бурят. Представлена модель культурного диалога, которая была выстроена в течение трех столетий соседствующими этническими группами. Подробно описаны заимствования в одежде бурятами у эвенков, в архитектуре - у русских и в земледелии - у приезжих китайцев.
Межкультурные взаимодействия, буряты, эвенки, китайцы, русские, традиционная одежда, архитектура, земледелие, народы сибири, этнология
Короткий адрес: https://sciup.org/145145010
IDR: 145145010 | УДК: 394 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.412-415
Текст научной статьи Межкультурное взаимодействие баргузинских бурят в конце XIX - начале XX века: одежда, архитектура, земледелие
Баргузинская долина является уникальной территорией для исследования межкультурных взаимодействий, так как уже на протяжении четырех веков здесь проживают и тесно контактируют сразу несколько этносов – русские, буряты и эвенки. В связи с этим представляется актуальным исследование межкультурных коммуника-412
ций на примере этнолокальной группы баргузин-ских бурят. Цель настоящей статьи – выявление особенностей межкультурных коммуникаций эвенков, русских, бурят и китайцев на протяжении XIX – начала XX в. на севере Республики Бурятии посредством анализа традиционной одежды, архитектуры, хозяйства. В работе ис- пользован большой объем архивных материалов и полевых материалов автора.
Методология исследования межкультурных коммуникаций связана, в первую очередь, с трудами антропологов Э.Б. Тэйлора и Л.Г. Моргана, сторонников теории культурного эволюционизма. Ранние работы по исследованию межкультурных коммуникаций фокусировались на концепции культурной эволюции. В них заложены основные принципы анализа межкультурной коммуникации. В научных работах по этнографии Сибири проводились подобные анализы, но межкультурное сравнение в них не было приоритетным, хотя выделялись отдельные категории этнической культуры (московская, томская и новосибирская этнографические школы). Методология их анализа схожа с западными теориями в том, что в работах рассматриваются категории из разных сфер (время, пространство, космос, природа, жилище и т.д.) и проводится анализ каждой категории применительно к культуре изучаемого народа [Жуковская, 1988, с. 4–7; Львова, Сагалаев, Октябрьская, 1988]. Данная методология была расширена в рамках другого исследования. Одним из первых Н.А. Алексеев проводит последовательный межкультурный анализ основных религиозных категорий в культурах якутов, алтайцев, хакасов [1992]. Необходимо выделить труд О.В. Бураевой по межкультурной коммуникации у бурят, русских и эвенков, в котором проанализированы заимствования в материальной культуре перечисленных народов и разработана периодизация межкультурных контактов [2000]. Однако ввиду охвата автором широких территориальных рамок некоторые детали межкультурных взаимосвязей были упущены, что может быть восполнено при этнолокальном анализе отдельной субэтнической группы бурят. В настоящем исследовании такой группой являются баргузинские буряты, проживающие в Баргузинском и Курумканском р-нах Республики Бурятии.
Наиболее ранние межкультурные контакты в Баргузинской долине связаны с переездом бурят из Предбайкалья в Баргузин в XVII–XVIII вв., где они впервые столкнулись с местными жителями – эвенками. А.С. Шубин указывает на то, что в этот период между ними часто возникали конфликты из-за территории, поэтому они обратились к русским за помощью [2001]. В 1648 г. был построен Баргузинский острог, который стал местом ссылки для политзаключенных. Соседство с русскими и другими ссыльными отразилось на повседневной и духовной жизни исследуемой этнической группы: политические ссыльные обучали детей-бурят грамоте и создавали образовательные кружки.
При переезде на север Бурятии в XVII–XVIII вв., где климат был более суровым, чем в Предбай-калье, буряты перенимали некоторые детали одежды эвенков. Зимняя обувь представлена меховыми унтами из овечьих касумов, заимствованными у соседей-эвенков. Сходство бурятских и эвенкийских шапки и шубы проявляется в отделке из меха выдры или соболя. В полевой экспедиции была найдена фотография, сделанная, предположительно, в начале – середине XX в., на которой у трех женщин разных возрастов присутствуют пояса на зимних дэгэлах, что не характерно для женской бурятской одежды, но встречается у эвенкиек. Меховая отделка шапок, меховые унты и покрой шубы во многом являлись заимствованиями из эвенкийской традиционной зимней одежды. Возможно, не только потребность в теплой одежде стала причиной изменения костюма, но также то, что баргузинские буряты в стремлении успешно ассимилироваться на новой территории начинали но сить одежду, соответствующую местной «моде». Такая тенденция являлась характерной и для мигрантов в Западной Сибири и в центральной части России [Фурсова, 2017, с. 65–66].
Межкультурные взаимодействия баргузинских бурят с русскими происходили в процессе постройки храмов. Они отразились в особенностях архитектуры Баргузинского дацана. Здание храма, построенного в 1880–1883 гг., представляло собой дацан второго поколения, который отличался тем, что в основании его лежал квадрат, а не прямоугольник. Судя по сохранившейся фотографии, традиции православного зодчества отчетливо отразились в его структуре. Во-первых, в дацане есть окна со ставнями и наличниками. Основание дацана – крестообразное, что характерно и для православных церквей. В тибетских и монгольских дацанах окна без ставен и наличников и гораздо меньше по размерам, а порой вообще отсутствуют. Влияние русского зодчества выявляется в таких деталях, как портики с окнами с наличниками и ставнями на каждом этаже, парадная широкая лестница, высокое крыльцо и главный вход под башней (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 5. Л. 63–68; ГАРБ. Ф. 357Б. Д. 1. Л. 2). Несмотря на то, что бурятские строители старались максимально приблизить буддийские храмы к тибетскому стилю и отойти от традиций, которые были заимствованы у русских строителей, русский стиль был использован в некоторых деталях, которые наряду с элементами тибетского и монгольского стилей сделали уникальными бурятские дацаны [Минерт, 1983].
Другой сферой, к которой традиционно обращаются ученые при анализе межкультурных взаимодействий, является земледелие. Многие иссле- дователи писали о том, что у русских старожилов буряты заимствовали навыки в земледельчестве. Однако в довоенные годы среди баргузинских бурят земледелие и огородничество были не так распространены, как у бурят, проживавших южнее [Болонев, 1994, с. 18]. Примечательно, что одними из первых, кто научил бурят заниматься посадкой овощных культур, стали китайские мигранты, работавшие в советских колхозах. В трех километрах выше от с. Аргада Курумканского р-на есть небольшое поселение под названием Шанхай, где в начале XX в. поселились китайцы. С 1840-х гг. в связи с тем, что граница с Россией в то время была открыта, многие из них в поисках заработка отправлялись на север, в Сибирь, где находилась частная капиталистическая золотопромышленность. Однако после революции закрылась граница с Китаем, и большая часть китайских мигрантов спустилась вниз, оставшись на поселении в селах Курумканского р-на. Один из информантов сообщил, что до китайцев никто в бурятских селах района не знал о помидорах и огурцах, которые стали выращивать китайцы. Дети китайских мигрантов вспоминают, что до войны в деревне с удивлением смотрели на выращенные их родителями помидоры и огурцы, которые многие буряты видели впервые. Местные жители отказывались есть овощи, которые, по их мнению, являлись экзотикой и непригодной пищей для местных скотоводов: «Лучше отдать эти красные шарики свиньям, чем есть самим» (ПМА)*, [Баторова, 2017, с. 3]. Однако в годы войны, когда китайцы работали в колхозе, выращивая овощи для фронта и для колхоза, многие впервые попробовали картофель, помидоры и огурцы и… начали высаживать эти культуры возле своего дома. Пожилые баргузинцы с благодарностью вспоминают китайцев, которые своими овощами спасли многих от голода в военное время. После войны некоторые китайские мигранты вернулись на родину, немало из них осталось в Бурятии, где их потомки ассимилировались с ме стны-ми жителями.
Не всегда межкультурные коммуникации происходили легкими и мирными способами. На новом месте буряты долгое время решали вопрос с эвенками о территории, который в результате был урегулирован в суде русской администрацией. Однако помимо конфликтов обнаруживается немало положительных аспектов взаимодействия бурят, эвенков, русских и других соседних народов. Скотоводы-буряты обучили русских и эвенков навыкам ухода за скотом. Благодаря заимствованиям в пошиве зимней одежды и обуви у эвенков, у баргузинских бурят возник свой традиционный костюм. Влияние русского населения является ключевым в переходе бурят-кочевников на оседлый образ жизни. Именно благодаря русским строителям появляются образцы бурятской храмовой архитектуры, в частности, немало заимствований из русского зодчества обнаружено в деталях Баргузинского дацана. Положительное влияние на баргузинских бурят оказали приезжие политические ссыльные и мигранты, которые обучали бурятских детей русскому языку и грамоте, организовывали школы, культурно-образовательные мероприятия и кружки. В начале XX в. китайские мигранты помогали баргузинским бурятам избежать голода, благодаря тому, что научили их выращивать огородные культуры. В целом, межкультурные взаимодействия баргузинских бурят со своими соседями в XIX–XX вв. оказали глубокое влияние на формирование особенностей традиционной культуры.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
Список литературы Межкультурное взаимодействие баргузинских бурят в конце XIX - начале XX века: одежда, архитектура, земледелие
- Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1992. - 242 с.
- Баторова Д.В. Буряадууд Людофуни ехэ хундэлдэг байгаа! (В Бурятии Людофуны пользовались большим уважением !) // Нютаг Хэлэн / Диалекты. - 2017. - № 21. -С. 3 (на бурят. яз.).
- Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII-XX вв. - Новосибирск: Февраль, 1994. - 146 с.
- Бураева О.В. Хозяйственные и этнокультурные связи русских, бурят и эвенков в XVII - середине XIX века. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. - 208 с.
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. - М.: Наука, 1988. - 198 с.
- Львова Э.Л., Сагалаев М. С., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время. Вещный мир. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988. - 225 с.
- Минерт Л.К. Памятники архитектуры Бурятии. - Новосибирск: Наука, 1983. - 192 с.
- Фурсова Е.Ф. Символика традиционной одежды как проявление этнокультурных идентичностей «свои/другие» в Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. - 2017. -Т. 24, № 2. - С. 63-66.
- Шубин А.С. Эвенки Прибайкалья. - Улан-Удэ: Бэлиг, 2001. - 116 с.