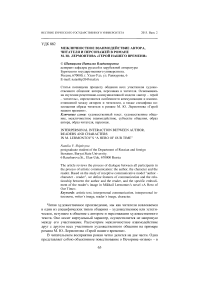Межличностное взаимодействие автора, читателя и персонажей в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
Бесплатный доступ
Статья посвящена процессу общения всех участников художественного общения: автора, персонажа и читателя. Основываясь на изучении рецептивно-коммуникативной модели «автор - герой - читатель», определяются особенности коммуникации и взаимоотношений между автором и читателем, а также специфика воплощения образа читателя в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Художественный текст, художественное общение, межличностное взаимодействие, субъекты общения, образ автора, образ читателя, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/148316456
IDR: 148316456 | УДК: 882
Текст научной статьи Межличностное взаимодействие автора, читателя и персонажей в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
Читая художественное произведение, мы как читатели вовлекаемся в один из специфических типов общения – художественное или эстетическое, вступаем в общение с автором и персонажами художественного текста. Оно носит виртуальный характер, осуществляется не напрямую между его участниками. Рассмотрим межличностное взаимодействие друг с другом всех участников художественного общения на примере романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
В читательском восприятии роман четко делится на две части. Одна представляет собою объективное повествование о Печорине «извне» – в записках странствующего офицера («Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие» к «Журналу Печорина»), другая – субъективноисповедальное самораскрытие героя изнутри в его «журнале» («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). Лермонтов, стремясь к наибольшей объективации близкого ему героя, подчеркнуто отделяет его от себя, прежде всего, особой структурой повествования: автор как бы уходит за «кулисы» романа, ставя между собой и героем «посредников», которым и передоверяет повествование. Собственно авторская речь формально представлена только в предисловии к роману. Фактически же она вырастает из стилевого «контрапункта» всех голосов романа. Благодаря такой полисубъектной организации повествовательной структуры, по мнению П. А. Висковатова, герой стереоскопически просматривается с разных точек зрения [1].
Чем оправдано это особое построение, в чем его смысл? Ответ на этот вопрос такой: Лермонтов строит свой роман с тем расчетом, чтобы обеспечить постоянный интерес читателя к характеру Печорина, определенную последовательность в раскрытии психологии героя. Он ведет читателя по своеобразным ступеням все большей и большей полноты этого психологического выявления его натуры: сначала, в «Бэле», мы знакомимся с Печориным лишь через рассказ Максима Максимыча, человека «простого» и не способного понять и объяснить нам его до конца; затем, в «Максиме Максимыче», добавляется несколько психологических штрихов, увиденных уже глазами рассказчика, но еще более «заинтриговывающих»; затем следует «Tамань», где Печорин уже и сам чуть-чуть приоткрывает свой внутренний мир; и наконец, «Княжна Мери», где характер героя, его психология раскрываются уже во всей полноте и этот новый, интригующий вызов читателю достигает своего кульминационного напряжения [2, c. 219].
Ведущим началом здесь выступает самоанализ героя, впервые так широко представленный в русской литературе. Самоанализ Печорина имеет в романе разные формы выражения: исповеди перед собеседником; «сиюминутной» внутренней речи героя, синхронной действию; ретроспективного осмысления своих психических состояний и мотивов поведения; «психологического эксперимента» над другими и собой. То, что Печорин постоянно размышляет о своих поступках и чувствах, анализирует их, является свидетельством того, что «герой лермонтовского романа – личность в самом высоком смысле этого слова» [1, с. 182]. Впервые в русской литературе читатель встречается с героем, который прямо ставит перед собой актуальные вопросы человеческого бытия: о цели, смысле жизни человека, его предназначении. Вот рассуждение героя перед дуэлью с Грушницким: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился? А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные» [3, c. 564] .
Данная «ступенчатая» последовательность раскрытия психологии Печорина, составляя внутреннюю «интригу» композиции романа, и сама содержит в себе, в свою очередь, некую новую «интригу» – настой- чиво ведет читателя к вопросу, который встает перед ним тем неотвязнее и острее, чем лучше узнает он Печорина, чем полнее вырисовывается перед ним характер лермонтовского героя. Такое избранное писателем построение романа дает возможность постепенно ввести читателя в душевный мир героя и создать множество острых ситуаций – вроде встречи автора со своим будущим героем и преждевременного (с точки зрения сюжета) сообщения о его гибели.
Тем не менее, автор предостерегает читателя от однозначной оценки этой неординарной личности. В предисловии к «Журналу Печорина» он пишет: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? Мой ответ – заглавие этой книги. “Да это злая ирония!” – скажут они. – Не знаю» [3, c. 499] . Так тема «героя времени», знакомая читателям еще по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», приобретает новые черты, связанные не только с другой эпохой, но с особым углом ее рассмотрения в лермонтовском романе: писатель ставит проблему, решение которой как бы предоставляет читателю. Как сказано в предисловии к роману, автору «просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал» [3, c. 456] .
Неоднозначность названия романа, как и самого характера центрального героя, сразу породила споры и разнообразные оценки, но выполнила свою главную задачу: заострила внимание читателя на проблеме личности, отражающей в себе главное содержание своей эпохи, своего поколения (автор в предисловии пишет: «Герой нашего времени», милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» [3, c. 456]. Тем самым Лермонтов подтверждал реалистическую направленность произведения). Таким образом, в центре романа «Герой нашего времени» стоит проблема личности, «героя времени», который, вобрав в себя все противоречия своей эпохи, в то же время находится в глубоком конфликте с обществом и окружающими его людьми.
Как отмечает Д. Е. Максимов, для того чтобы показать внутреннюю жизнь и эволюцию героя, автор использует самые разнообразные средства, среди которых не только монологи, диалоги, внутренние монологи, психологический портрет и композиция произведения, но и пейзаж [4].
Особенности пейзажа связаны, прежде всего, с жанром каждой из частей. «Бэла» написана в форме путевых заметок, и поэтому природа в этой части описывается с большой документальной точностью. В «Тамани», которая представляет собой авантюрно-приключенческую новеллу и открывает дневник Печорина, пейзаж призван интриговать читателя и окружать таинственным, романтическим ореолом героев. Другая задача пейзажа в этой части – противопоставляя дикость, неукротимость стихий и бесстрашие героев, подчеркивать, что для них бушующая стихия – естественная среда. В «Княжне Мери» природа влияет на людей, располагая их к определенному настроению. Так, крутой обрыв в сцене дуэли Печорина и Грушницкого, выполняющий сначала роль выразительного антуража, в итоге становится причиной нарастания напряженности героев: тот, в кого попадут, будет убит и найдет свое пристанище на дне жуткой пропасти. Такая функция пейзажа – следствие реалистического метода Лермонтова. В философской повести «Фаталист» описание природы играет роль символа. Здесь звездное небо символизирует гармонию мировосприятия и ясность цели человеческого существования, которых как раз и не хватает Печорину в жизни.
Кроме того, пейзаж служит и средством характеристики различных персонажей. Отношение героя к природе выступает мерилом глубины и неординарности его натуры. Так, пейзажные зарисовки в «Журнале Печорина» помогают понять его сложный, мятежный характер и раскрывают широкую душевную организацию. В своем дневнике он неоднократно дает почти поэтические описания окружающего пейзажа: «Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками» [3, c. 509] .
Так же, по замечанию Д. Е. Максимова, для раскрытия разнообразных черт личности «героя времени» служат и все второстепенные персонажи романа, включая и женские образы, сколько бы яркими и запоминающимися они ни были [4]. Так, соотношение с Вуличем помогает прояснить отношение Печорина к проблеме фатализма. Линии Печорин — горцы и Печорин – контрабандисты выявляют соотношение «героя времени» и традиционных героев романтической литературы: они оказываются слабее его, и на их фоне фигура Печорина приобретает черты не просто личности исключительной, но порой демонической. В противопоставлении Печорина и «водяного общества» раскрывается проблема социальных взаимоотношений «героя времени» с людьми его круга. В таком своеобразном построении системы образов романа, когда все сюжетные линии оказываются стянуты к одному главному герою, а остальные персонажи помогают наиболее полно его представить, состоит одна из художественных особенностей произведения М. Ю. Лермонтова.
Итак, рассмотрев всех участников процесса художественного общения, мы пришли к выводу о том, что между ними существует совсем не простое и далеко не прямолинейное, а достаточно разветвленное и переплетающееся межличностное взаимодействие. Причем это взаимодействие сводится к двум типам: субъектно-объектному и субъектносубъектному. При субъектно-субъектном общении, как отмечает А. С. Комаров, «каждый из этих субъектов (автор, читатель и персонаж) несет в себе собственное “я”, не тождественное другому “я”» [5, с. 176].
В случае если «я» одного из них ассимилируется другим «я», то можно говорить о превращении одного из субъектов межличностного взаимодействия в его объект. Это превращение в романе происходит в следующих случаях:
-
• персонаж для читателя выступает источником информации об авторе, самом себе, своtм втором «я» или знакомых ему людях (например, Максим Максимыч как источник информации о Печорине);
-
• персонаж для автора выступает средством реализации авторского «я» (например, персонажи, которые группируются вокруг Печорина);
-
• читатель видит в авторе свою собственную субъективность, а художественное произведение воспринимается читающим как средство в изучении авторского «я», своего «я» и «я» других людей;
-
• автор видит в читателе персонаж, который выступает реализацией «я» автора или его второго «я» (в качестве примера можно привести такой тип воображаемого читателя, как читатель-слушатель (в романе это странствующий офицер, ведущий свои путевые записи), который одновременно является героем произведения и читателем).
Таким образом, художественный анализ романа доказывает: слово, по воле писателя став частью художественного произведения, помогает выделить целостный организующий образ произведения и изменяет качество адресата, превращая его из простого читателя в полноправного участника художественной коммуникации. Подобное межличностное взаимодействие способствует развитию полноценного восприятия художественного произведения и позволяет читателю подсознательно говорить с автором на языке его творения.
Следовательно, справедливым является следующее утверждение А. М. Левидова: «Автор – образ – читатель – единая система, в центре которой находится художественный образ, важнейшая промежуточная “инстанция” в общении читателя с автором, когда он читает, и автора с читателем, когда он творит. Именно здесь – в художественном образе – встречаются их творческие пути» [6, с. 326].
Список литературы Межличностное взаимодействие автора, читателя и персонажей в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"
- Висковатов П.А. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. - М.: Книга, 1989. - 454 с.
- Лермонтов М.Ю. Исследования и материалы. - Л.: Наука, 1979. -431 с.
- Лермонтов М.Ю. Соч.: в 2 т. - М.: Правда, 1990. - Т. 2. - 704 с.
- Максимов Д.Е. Об изучении мировоззрения и творческой системы Лермонтова // Русская литература. - 1964. - № 3. - С. 1-12.
- Комаров А.С. Автор и персонаж в субъект-субъектном пространстве художественной прозы // Филологические науки в МГИМО. - 2012. -№ 48. - С. 176-185.
- Левидов А.М. Автор - образ - читатель. - 2-е изд. доп. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - 352 с.